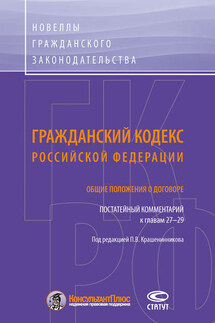Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ (Понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок) - страница 13
Из сопоставления § 51 и 71 мы можем, пожалуй, скорее вывести обоснование собственности через то же самое признание владения как наличного бытия воли на присвоение, на собственность, чем обосновать различия; в первом случае собственность становится правом через признание «других», которые могут, на мой взгляд, быть отождествлены с обществом, с правопорядком, а во втором случае через признание только контрагента, хотя бы оно уже заранее предполагалось, «имелось наперед».
Если пользоваться некоторыми гегелевскими конструкциями (конечно, упрощая их), то, кажется, право, как всеобщая воля, должно все же опираться не на одну лишь общую (для сторон) волю в договоре, и потому никак нельзя избежать апелляции к «другим», т. е. к правопорядку[45], ограничиваясь одной только стороной договора.
В этом отношении вещный договор обходится совершенно без такой апелляции к всеобщему, всецело представляя переход права как результат взаимодействия только воли сторон (общей воли в гегелевской терминологии).
Между тем Гегель вовсе не придавал передаче вещи и любым иным актам сторон после сделки купли-продажи сколько-нибудь существенного значения. Напротив, говоря о стипуляции, собственно сделке как части менового договора, он решительно замечал: «…посредством стипуляции я отказался от своей собственности и от особенного произвола по отношению к ней; она стала уже собственностью другого, поэтому стипуляция юридически непосредственно обязывает меня к выполнению… выполнение является лишенным самости следствием»[46] (§ 79).
Весьма знаменателен этот удивительный прыжок от лишенного самости выполнения к наполненному собственным содержанием (т. е. как раз самостью) вещному договору, хотя бы старательно отделенному от исполнения обязательства. Ведь нетрудно убедиться, что сколь угодно настойчивое указание на мысленное отделение вещного договора от исполнения обязательства никак не примиряет концепт вещного договора с гегелевской теорией: у него уже в момент сделки отчуждение состоялось окончательно, все остальное ничего не может изменить в этом смысле.
Можно при склонности к умозрительным суждениям заметить, что механизм, представленный Гегелем в § 79, скорее напоминает модель отчуждения по ФГК (исторически эти два явления мысли связаны несомненно). Тогда вещный договор, взятый как критика французской модели отчуждения, окажется и критикой § 79 «Философии права».
Сделка, как уже говорилось, существует до права и вне права, так что само это понятие не может быть создано средствами закона (и потому вполне бессмысленными в познавательном, да и в практическом, плане кажутся представление о сделке как о том «факте, который так называется законом» и тому подобные рассуждения).
Не случайно Гегель мало внимания уделяет собственно сделке, ведь он пишет о воле и ее явлениях. Договор в этом смысле у него выступает как общая воля двух сторон, а сделка как волеизъявление стороны обозначается через стипуляцию, хотя философ, конечно, подчеркивает, что и содержание стипуляции уже обусловлено общей двум сторонам волей.
Я не ставил цели очередной раз изложить, как возникло понятие вещного договора: этот вопрос относится к истории германского права, которая не затрагивается этой работой, и достаточно хорошо известен, во всяком случае в части вещного договора и распорядительной сделки, особенно часто привлекающих внимание отечественных юристов. Мне более важными кажутся те редко освещаемые и даже редко замечаемые явления не только теории, но и практики (причем преимущественно российской), которые постоянно пытаются внедрить и применять не столько даже целостную теорию вещного договора, сколько ее несвязанные элементы и отзвуки.