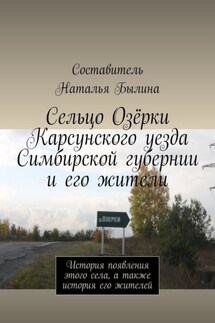Сельцо Озёрки Карсунского уезда Симбирской губернии и его жители. История появления этого села, а также история его жителей - страница 12
Есть еще версия, что Щербаками называли людей, у которых не было одного иди нескольких передних зубов.
Ну и еще одна версия. Щербаками называли людей, склонных к накопительству, а также людей, которые любили браниться. Так вот и считайте, кем был самый первый предок представителей этой семьи.
Ревизская Сказка за 1834 год, крепостных крестьян помещика М.А.Бобоедова. Двор №6
7.Двор №7. Эта семья идет под фамилией Карасевы.
Во дворе под номером 7 жили наши прямые предки Иван Тимофеев, 21 год со своей молодой женой Федосьей, 19 лет.
Или им подарили дом, и вообще, было такое принято или построились сами. Но в будущем у них будет большая семья, а пока, их только двое.
Давайте поговорим, как они получили свою фамилию.
Основой фамилии Карасев послужило мирское имя Карась. Фамилия Карасев образована от некрестильного имени или прозвища Карась. Такие «рыбные» имена были очень популярны в старину и зачастую давались не по внешним признакам, а по традиции. В древнем Новгороде, как показали найденные недавно берестяные грамоты, проживали братья Линёвы с именами Сом, Ерш, Окунь, Карась и Судак. Однако было у этого слова и другое значение: Карасем, Карасником называли также мастерового для размотки шелка с кокона. Однако первая версия выглядит не менее правдоподобно. Карась, со временем получил фамилию Карасев.
Ревизская Сказка за 1834 год, крепостных крестьян помещика М.А.Бобоедова. Двор №7
8.Двор №8. Это семья идет под фамилией Гришины.
Двор под номером 8 и глава этого дома 52 летний Ларион Александров, жену звали Анна, 45 лет.
У них было 4 сына:
Матвей, 21 год с молодой женой Татьяной, 20 лет;
Карпей, 17 лет;
Григорий, 14 лет и Алексей, 13 лет. Также у них была семилетняя дочь Ирина.
Ревизская Сказка за 1834 год, крепостных крестьян помещика М.А.Бобоедова. Двор №8
Что представляли собой русские поселения в первой половине XIX в?
Русские поселения в XIX в. представляли ряд крестьянских прокопченных изб, тесно примыкающих друг к другу, крытых преимущественно соломой: «… узкие проулки между изб, дворов и огородов выходили к роднику или речке. На задах, в огородах стояли овины, около которых лежали дрова, слеги, запасные колья, сани и многое другое. На въезде из села или посередине широкой улицы тесным строем тянулись амбары с нависшими соломенными реже деревянными и железными крышами. За селом чернели кузницы, ветряные мельницы, а еще дальше в стороне от дороги – кладбище, обнесенное рвом, с печальными воротами и деревьями…».
В центре села находилась обычно церковь, рядом с которой в добротном доме жил священник. Вблизи некоторых сел, деревень, в тени рощ и садов размещались помещичьи усадьбы. В крупных торговых селениях насчитывающих более 500 дворов-хозяйств, с численностью населения свыше 2000 чел. имелись добротные, пятистенные, а также двухэтажные каменные дома зажиточных крестьян и «промышленников» – владельцев. В среднем по Симбирскому краю на один населенный пункт приходилось 80—100 дворов.
Своеобразны названия населенных пунктов Симбирского-Ульяновского Поволжья. Они ведут свое происхождение от языков: финно-угорского (мордовского), тюркского (чувашского, татарского), славянского (преимущественно русского).
Формирование финно-угорского и тюркского топонимического слоев своими корнями уходит вглубь истории. Славянский топонимический пласт по происхождению является наиболее поздним. Его возникновение обязано интенсивному заселению края русскими. Более широко представлены в названиях селений Ульяновского Поволжья славянский и тюркский топонимический слои.