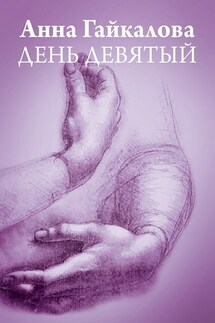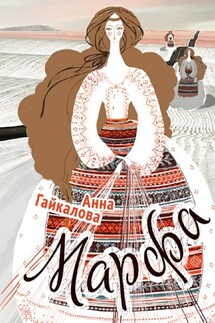Семьдесят шестое море Павла и Маши П. - страница 47
Пронаблюдав эту картину, Владимир Иванович словно коснулся острого шипа, но не подпустил к себе догадку, отбросил, сосредоточился на переживаниях дочери. Машуня, Машуня, думал он и нервно зевал, ему снова не хватало воздуха. Зевание досаждало, и священник останавливался у открытого окна, глубоко вдыхал городскую весну и снова возвращался к своей тревоге: «Машуня!»… Лето она провела, никуда не выезжая, по утрам послушно молилась, днем помогала в храме, бралась за любую работу, разносила обеды немощным старикам округи.
– Хоть я и не молитвенная, хоть я у тебя и неученая, папочка, а буду я как добрый самарянин. Он ведь не священник, не одноплеменник, а жил по-христиански! Ой, пап, ты не обиделся?
– Ты женского роду, а неученость не порок. Знаешь, какими бывают обыкновенные деревенские необразованные люди? Диву даешься, сколько в них деликатности, такта… Я не о внешнем, ты понимаешь, о внутреннем. А ведь их толком и не воспитывал никто, и не было на них ни ученья, ни внушенья на тему поведенья или рассужденья. И наоборот, иные учены-переучены, а слушать горестно, чем их помыслы заняты. Главное, чтобы было сердце добрым. А у тебя оно золотое, – обнимал свое сокровище Владимир Иванович и, затаивая дыхание, следил, как меняется Маша.
Теперь по вечерам она читала учебники и разнообразные книги о животных, взятые в библиотеке, все более успешно сосредотачиваясь. В книгах она пропадала так же, как когда-то на подоконнике перед заоконным пейзажем.
– Ты представляешь, папочка, муравьи-загонщики на своем пути совершенно, ну просто совсем-совсем все уничтожают. Они могут пожрать даже маленьких крысят, вот почему, оказывается, крысы в тропиках не живут! Всего-то из-за муравьев. И ведь этого никто не знает… Или только я одна такая в жизни отключенно-аварийная? – Стоя на локтях и коленях на диване, Маша снова утыкала нос в книгу.
В кулинарном техникуме речь больше не заводилась, Владимир Иванович по-прежнему надеялся, что дочь останется работать в храме, чего теперь ему еще больше хотелось. Он понимал, его девочка, даже читающая и выписывающая что-то в свои тетради, как и прежде остается словно не от мира сего.
– Пап! – В широкой рубахе поверх узких бриджей Маша вставала, потягивалась и превращалась в прямоугольник с торчащими в разные стороны тощими конечностями и всклокоченной головой. – Ты когда-нибудь задумывался, дышит цыпленок в яйце или нет? А ведь он дышит, дышит!!!
– Мне думается, дышит, – отец с нежностью и неизбывной тревогой смотрел на дочь. – Ведь ребенок в утробе матери дышит тоже…
– Да, да! – Снова на локти и колени и, уже погружаясь в чтение, Маша договаривала едва слышно. – Но ведь тут какая обшивка, вот я и не думала никогда, не думала никогда… ни о чем… дурилка ливерная…
– Не говори о себе плохих слов, доченька, – в сотый раз уговаривал отец, и ради него Маша отвлекалась еще на миг.
– А это и не плохо вовсе, я же колбаса яичная, ливер высшего качества!
Отец призывал Богородицу и молил заступничества о своем ребенке, просил женского счастья дочери у святых покровителей семьи Иоакима и Анны и тяжко вздыхал по ночам, когда Маша уже спала. Закрыв глаза, Владимир Иванович все твердил свои молитвы, но покоя его душа не обретала.
Ему хотелось бы больной вопрос оставить на Божье попечение и дальше жить спокойно, дескать, Господь усмотрит, но и этого не удавалось тоже. Теперь, когда на исповеди в храме кто-то делился с ним своей тайной тревогой, и он советовал прихожанину не думать о проблеме, а вручить ее Господу, Владимир Иванович вспоминал о Маше и о том, что сам он последовать мудрости не в силах. После этих случаев он уставал особенно и, когда исповедь заканчивалась, еле из храма шел. Ему хотелось тишины и уединения, он бы припал к лику Божьей матери и так бы стоял долго, но сан требовал сдержанности, Владимир Иванович обуздывал себя.