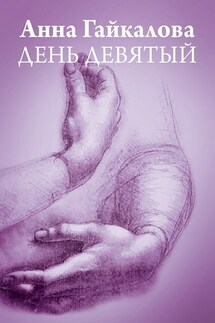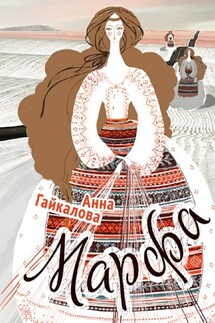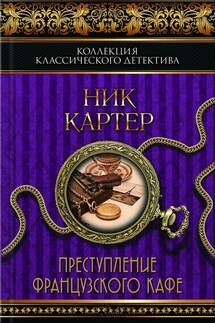Семьдесят шестое море Павла и Маши П. - страница 50
Как не думают они о том, сколько горя отцу приносят, не взыскуя между собой мира? … Как не понимают, что не может убитый отец радеть о гвоздях, но о единстве между детьми… Вот бы я сказал им с небес: считать всем, что гвоздей было три! Так что там о старообрядцах?» – Он перевел взгляд на старые страницы.
«…Они упустили, что и святые отцы, хотя и святые, но были люди, что эти святые люди жили в дальнее, с в о е время, что они понимали и объясняли только э т о время, что на вечные времена их учение не может быть полно, что, наконец, и святые отцы, как и все люди, будучи высоки и святы во многом важном, в ином могли и ошибаться или кое-чего не замечали, а то и не понимали. Часто не знали».…
Он тоже был просто человеком. Где-то там, в самом своем глубинном, о котором порой и догадки страшны, о котором и просил он только что Бога словами псалма, Владимир Иванович был с этими путанными изъяснениями согласен… Но он мучительно боялся хотя бы приостановиться на запретных размышлениях, поэтому погрузился в статью.
Строчки, подписанные безликим «Друг» побежали перед глазами… И священник Владимир Бережков отвлекся от тревоги, которой только что был наполнен.
Последние годы Бережковы жили на улице Грановского, пять минут, и ты у Кремля. Улица тихая, специальная. Покой окрестным жителям гарантировал представительный дом для государственных «шишек» средней руки и правительственная «кормушка», куда целыми днями подъезжали машины с охраной – явлением в ту пору редким. Внутри во дворах громоздились, жались друг к другу обычные дома с обветшалыми лестницами и многокомнатными коммуналками.
Квартира Бережковых чрезвычайно нелепа, в ней всего четыре комнаты, две небольших смежных, их занимали Владимир Иванович с Машей, и две огромных. В одной из них, тридцатиметровой, испокон века обретался тот самый Попсуйка, старый вояка неизвестного года рождения, чьи неснимаемые кожаные галифе когда-то растрескались, как виды видавшая лакированная поверхность стола, да так и законсервировались.
Попсуйку звали то ли Петро, то ли Павло, но дед панибратского расклада не одобрял, всем приказывал обращаться к себе только по фамилии. Некоторые соседские гости по первости хихикали, им казалось, «дед Попсуйка» звучит нелепо, и народ искал созвучную замену смешному имени, чтобы неуместными смешками не попадать впросак. Благородный замысел многократно потерпел крах. «Поп», с которого начиналась любая замена, в квартире уже жил – настоящий, рукоположенный отец Владимир Бережков, а минуя слово «поп», прозвать соседа хоть как-то благовидно не удавалось. Так он и утвердился дедом Попсуйкой, когда о нем говорили в третьем лице, к чему все скоро привыкли, потому что случайных гостей в квартире, как правило, не появлялось. Обращались же к Попсуйке все жильцы квартиры исключительно «дед», прилагая к этому домашнему семейному прозванию разнообразные окончания.
Дед Попсуйка, всем довольный и ненавязчивый, хранил сердечную верность своей ненаглядной Бронечке из Черновиц, которую родители в девятьсот четырнадцатом году насильно вывезли в Австрию, спасаясь от расправ над евреями. Вероятно, из-за Бронечки к евреям Попсуйка относился с особым трепетом, при случае непременно выказывая свое расположение. След Бронечки с тех пор затерялся, наверно и в живых ее давно уже не было, а Попсуйка все жил и жил, постоянно терял свои вещи, немного пованивал и ронял остатки белых волос в кастрюли и на кухонные столы.