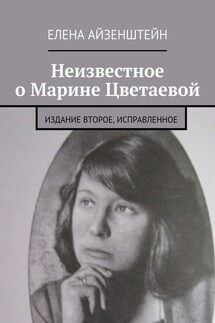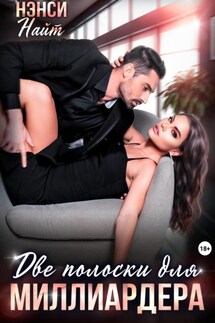Сестра моя зверь. О зоологическом мифе Алексея Цветкова - страница 2
Любовные стихи у Цветкова очень сдержанные и какие-то закаменелые. Сам лирический герой – «отвердевший цемент» прежних чувств в «цементной броне» (с. 50). Вагнеровский Тангейзер, герой легенды 13 века, мечущийся между небесной Венерой и земной Елизаветой, берется автором в стихотворную ткань. Лирический герой Цветкова – «минутный Тангейзер, салонный ломака,/ Летучих страстей заводной инструмент» (с. 50), оставляющий в петроградском дворе свою возлюбленную, которую он соотносит с вагнеровской Изольдой, приходит к мысли об одиночестве («И человек, как табор переезжий,/ Внутри себя прокладывает путь» (с. 52). Смыслом жизни для него является не любовь, а он сам – «творения последнее звено» (с. 52). Замечательно уподобление в одном из стихотворений любви архитектурному сооружению: «И надо воздвигнуть по калькам античных страстей / Из пепла теорий – любви роковую постройку» (с. 53). Но роковая постройка любви редко царит в его текстах, и отношение Цветкова к женщине на многих других страницах книги поражает чёрствостью и презрением.
Свою «держимость» в чужих руках (Цветаева, «Искусство при свете совести») Цветков изобразил в стихотворении о трех парках, богинях, представленных стеклянными старушками, прядущими нить судьбы, «с вязанием в морщинистых руках» (с. 28). Общение автора с парками – общение со злой судьбой: «Они глядели, сумеречно силясь/ Повременить, помедлить, изменить,/ Но эта, третья, странно покосилась/ И разрубила спутанную нить» (с. 28). Автор рисует в этих стихах свое наблюдение за изменяющейся судьбой. Он оказывается не только в роли жертвы, но и зрителя, с восхищением наблюдающего за работой спорых рук. Надо сказать, Цветкову близка метафора вязания, шитья поэтическими образами: «Относительно стихов – эти будут не из лучших,/ Не светиться, а зиять, как изнаночные швы» (с. 30). Еще один образ «держания» в руках судьбы – в образе бумажного человечка, нарисованного в блокноте. Неопытная рука лирического героя-поэта соотносится с живой и тоже не совсем умелой рукой Бога. Полуживу, полуиграю, полухочу, полуумею – слова с полу- помогают понять половинчатость существования лирического героя, маленького уродца, в том числе и в творчестве: «Бумагу перышком мараю, / Вожу неопытной рукой» (с. 59). Для Цветкова человек что-то вроде диверсанта или разведчика, заброшенного на землю для выполнения важного небесного задания:
Как он живет, как он играет В приемной Страшного Суда! Он в каждой песне умирает И выживает навсегда. (с. 60)
Цветков верит в свое поэтическое бессмертие. Конечно, не все его стихи выдержат заявленную высоту, но в судьбе лучших можно не сомневаться. Как я уже отметила, «учительницей» Цветкова можно назвать Цветаеву, и, конечно, поэт не может не помнить об этой ответственности – перекликаться именами и голосами. В числе таких перекличек мне видятся стихи «Прощание Гектора с Андромахой». Именно Цветаева в книге «После России» заставила легендарных героев говорить современным языком. Прощание Гектора с Андромахой» можно сравнить с «Федрой» и «Ариадной» Цветаевой. Для Цветкова встреча с небом, важнее, чем обычное земное существование, но его герои говорят все равно о любви, и эта любовь как бы выходит из берегов среднеземного человека: