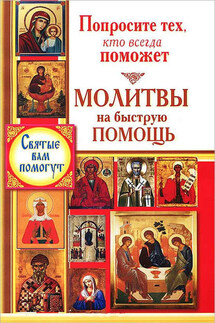Сей мир. Стена - страница 16
– Дана?.. – вытащил камеру из баула младший. – Я Тимофей… А, Дана, ты не могла бы, скажем, очки снять? – И, когда «нимфа» сняла очки, удивив блеском глаз, он навёл объектив, сказав: – Ты гордишься незнанием? – Аппарат начал щёлкать.
Шорох отвлёк их. Это приблизилась голова, что двигалась над бурьянами с той поры, как их джип прикатил сюда, и случилась художником, мешковатым, плешивым, в сером плаще, пусть зной был вокруг немыслимый. Не вступая на выкос, сделанный братьями, он, в траве по грудь, начал ставить мольберт, шумливо и неумело.
– Хвалишь незнание? – продолжал речь младший, глядя, как девочка навлекла очки на глаза. – Познание – долг наш, славная Дана. Мысля, я есмь. Ведь мыслить и быть – тождественно… Дана, дева-напея, мыслишь ты или нет?
– Ох, – с паузой был ответ. – Не думаю и не знаю ни А ни Бэ.
При смехе двоих у джипа и при суровой мине высокого, в эксклюзивной рубашке с галстуком дядьки, Дана прибавила: – Бог дал жизнь. Не слышано, что Он дал и знание. Разве можно знать?
Младший, делавший съёмку, замер. А Разумовский, выявив логику в подростковом нелепом, претенциозном, мнил он, юродстве и собиравшийся завершить спор вставкой «случайности» голой, зыбистой, в странных бабочках девочки на цветущем пространстве около речки в рамки логичных чётких суждений, чтоб оправдаться в неких волнениях, внешне, правда, не видных, но возбуждённых в нём, развернул аргумент:
– Хм. Знание ни к чему, да, девочка? «Без того я жива, эффектна», так, верно, мыслишь ты? Но, сказав «я не знаю ни А ни Бэ», ты призналась, что знаешь, что ты не знаешь их. Получается, знать возможно. – Выдав сентенцию, он взглянул на свидетелей правежа уверенно, со значением.
Дана, тронув лоб, словно думая, вновь сняла очки и спросила:
– Как знать язык ваш?
– Как знать язык наш? Не понимаешь? Но ты ведь русская? Явно, русская. Вот по-русскому и ответь.
– Наверное, вам ответ не нужен. Нужно, наверное, чтоб я думала, как вам нравится. Но в словах жизни нет.
– Точней скажи: жизни? истины? – уточнял Разумовский.
– Ох, – Дана молвила, всё с рукой у лба, на которой сидели бабочки. – Вы, реши вдруг: знать невозможно, – вы бы сказали, что, кто заявит: «Нет, знать возможно», – знал бы вдобавок и невозможность знать. Об одном и о том же – разное. А на ваш вопрос… Можно знать или нет? Спросили вы, так как знаете? Получается, можно знать и не знать, раз спрашиваете, чтоб знать. – Она улыбнулась, тихо добавив: – Ох, я не знаю ни А ни Бэ.
Все смолкли.
От стрекотаний звонких кузнечиков, от жужжаний слепнéй вокруг, от дурмана цветов, от бабочек на плечах «напеи» и от насмешливых «А» и «Б» её, от наивности доводов обнажённой селяночки, Разумовский, сказав: – Хитры твои А и Бэ, увёртливы, – потянулся за пачкой и зажигалкой, а закурив, опять повёл: – В школе учишься? Ты вот это вот – «об одном и о том же разное» – где-то выучила4?
– Не помню, – молвила Дана. – Учат не правду, а как все выдумки прясть друг с дружкой. Выдумки мёртвые. Я не знаю их… – Говорилось всё медленно, точно Дана подыскивала слова. Глаза её были странно восторженны.
– Мне, – вскричал толстяк, – импонирует, как она валит наш логицизм, друзья!
Разумовскому кстати был вдруг вмешавшийся в спор толстяк, треск рухнувшего мольберта горе-художника, вслед за чем тот проплёлся вяло на выкос, где вознамерился рисовать – скорей всего, три избы за речкою. В стороне, на их береге и чуть выше по склону, взору открылся некто шагавший в длинной хламиде, к джипу спускавшийся, а бубнявый галдёж вдали обозначил движение – тоже к джипу на выкос – давешних братьев.