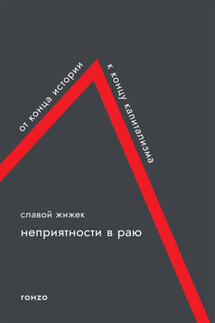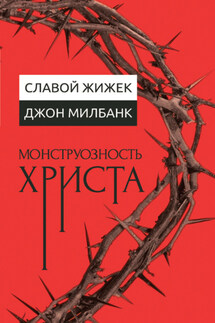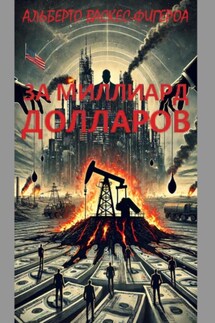Щекотливый субъект. Отсутствующий центр политической онтологии - страница 4
По точному замечанию Бальме, именно поэтому в психозе нехватка возникает на другом уровне: психотики продолжают жить в насыщенном символическом пространстве изначального «полного» (материнского) большого Другого; они не считают символическую кастрацию утратой, которая сама по себе является освобождающей, дарующей, «продуктивной», открывающей пространство, где вещи становятся значимыми; для них утрата может быть только лишающей, попросту отнимающей у них что-либо.
Совершая рискованный интерпретативный шаг, Лакан связывает эту «изначальную» символизацию, доступную психотикам и предшествующую их символической вовлеченности, с хайдеггеровским различением между изначальным измерением языка как раскрытием Бытия и измерением речи как носителем (субъективных) означиваний или как средством интерсубъективного признания: на этом исходном уровне называния как показывания (Sagen как Zeigen) различие между означиванием и референцией исчезает, слово, которое называет вещь, не «означает» ее, оно конституирует/раскрывает ее в ее Бытии, оно открывает пространство ее существования. Этот уровень – уровень видимости как таковой, не видимости, противопоставляемой стоящей за ней реальностью, а «чистой» видимости, которая «существует» только в своем видении и за которой ничего нет. В своем семинаре о психозах Лакан дает прекрасное описание такой чистой видимости и сопутствующего чисто метафизического соблазна свести эту видимость к ее основанию, к ее скрытым причинам:
Радуга, это просто она [c'est cela]. И это «это просто она» означает, что мы изо всех сил пытаемся узнать, что скрыто за ней, какова причина, к которой мы можем свести ее. Заметим, что отличительной особенностью радуги (и метеора – и все об этом знают, поскольку именно поэтому мы и называем его метеором) является то, что за ней ничего не стоит. Она вся в этой видимости, в этом явлении. Нас притягивает в ней – настолько, что мы не перестаем задавать вопросы об этом, – исключительно изначальное «это просто она», то есть именование ее таковой. Здесь нет ничего, кроме этого имени[10].
Пользуясь хайдеггеровским языком, психотик не является welt-los, лишенным мира: он уже живет в открытии Бытия.
Но, как это часто бывает с Лаканом, это прочтение сопровождается своей (естественно, асимметричной) противоположностью: прочтением того, что дает психотикам доступ к «высшему» уровню символизации и лишает их «низкого» базового уровня. Поскольку Лакан считает фрейдовское различие между «представлениями вещей» [Sach-Vorstellungen] и «представлениями слов» [Wort-Vorstellungen] присущим символическому порядку, то есть различием между изначальной символизацией, установлением исходного бессознательного ряда означающих («следов памяти», говоря языком раннего Фрейда еще до создания психоанализа), и вторичной символизацией, сознательной/предсознательной системой языка, это приводит его к парадоксальному определению ситуации психотика: вопреки распространенным представлениям, психотик – это не тот, кто скатывается к более «примитивному» уровню представлений вещей и «воспринимает слова как вещи»; напротив, он – тот, кто сознательно использует представления слов без представлений вещей[11]. Иными словами, психотик прекрасно может пользоваться языком в повседневной жизни, но у него отсутствует бессознательный фон, который придает используемым нами словам либидинальный резонанс и особый субъективный вес и окрас. Это также помогает понять кажущееся «эксцентричным» утверждение Лакана о том, что нормальность – это разновидность психоза. Наше «нормальное», основанное на здравом смысле понимание языка определяет его как искусственную вторичную систему знаков, используемых для передачи имеющейся информации и т. д., но в этом определении игнорируется исходный уровень субъективной вовлеченности, позиции высказывания. Парадокс психотика заключается в том, что он – единственный, кто полностью отвечает этому определению, то есть тот, кто действительно использует язык как нейтральный вторичный инструмент, не имеющий никакого отношения к самой сущности говорящего: