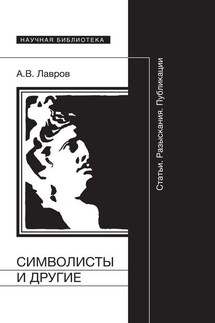Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации - страница 11
Второй глагол в формуле «Чаю и чую» аккумулирует в себе все те многоразличные формы эмоциональных и рациональных медитаций, посредством которых Коневской воспринимает и отображает в слове открывающийся ему мир. Но вместе с тем поэт и «чает» – пытается волевым усилием рефлектирующего сознания постичь этот мир в его целостности и внутренней противоречивости, провидеть за явлениями сущность, влечется к слиянию с всеединством. Внутренний драматизм, пронизывающий творческое самосознание Коневского, не связан непосредственным образом с обстоятельствами времени и места, обусловившими существование поэта, но продиктован самыми общими и непреходящими условиями метафизического свойства, осмысление которых составляло главное содержание его внутреннего мира. Тот же Брюсов правомерно усматривал в этой метафизической доминанте исключительную особенность творческой индивидуальности Коневского, отличавшую его от всех других поэтов его поколения, находившихся в орбите становящегося русского символизма: «Философские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались для него отвлеченными проблемами, но просочились в его “мечты и думы”, и его стихи просвечивают ими, как стебельки трав своим жизненным соком. Подобно всем своим сверстникам, деятелям нового искусства, Коневской искал двух вещей: свободы и силы. Но в то время как другие искали их в “преступлении границ”, в разрешении себе всего, что почему-либо считается запретным, будь то в области морали или просто в стихосложении, – Коневской взял вопрос глубже. Он усмотрел рабство и бессилие человека не в условностях общежития, а в тех изначала навязанных нам отношениях к внешнему миру, с которыми мы приходим в бытие: в силе наследственности, в законах восприятия и мышления, в зависимости духа от тела».[70] И далее Брюсов приводит фрагменты одного из стихотворений Коневского, в котором внутреннее «я» автора раскрывается со всей наглядностью:
(С. 130–131)
Это стихотворение написано в 1899 г. Но сходное по сути своей сочетание поэтических смыслов мы встречаем и во фрагменте, относящемся к 1894 г. – начальной поре творческого самоопределения Коневского:
(С. 172)
Рано сформировавшийся мир поэтических образов Коневского в дальнейшем не обнаруживает отчетливо выраженных признаков внутренней эволюции – и это особенно наглядно проявляется на фоне других мастеров, заявивших о себе в 1890-е гг.: каждая новая книга Бальмонта или Брюсова, изданная в это десятилетие, манифестирует собой новый этап творческого развития автора, преемственно связанный с предыдущим, но в то же время отмеченный именно ему одному присущими особенностями; даже Александр Добролюбов, ушедший в 1898 г. из прежней обиходной и литературной жизни, в своем «Собрании стихов» (1900), составленном из текстов, написанных до «ухода», обнаруживает существенно иные черты поэтической образности, чем те, которые были заявлены в его дебютной книге «Natura naturans. Natura naturata» (1895).