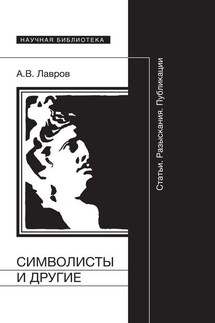Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации - страница 25
(С. 149)
Столь же искусственными, идущими вразрез с определившимися формами общественного мироустройства представляются Коневскому попытки изменить это мироустройство организованными волевыми усилиями. От радикальных политических устремлений своего времени он далек; во время студенческих волнений, охвативших в 1899 г. Петербургский университет, чувствует свою глубокую отчужденность от основной массы однокашников, не в состоянии разделять их эмоции, но и репрессивные действия со стороны властей решительно не приемлет:
(«Zeitgedichte», I. «Сумятица»). (С. 190)
Невосприимчивый к вирусу социально-политической активности, Коневской, однако, выказывал живой, но при этом вполне отстраненный интерес к многоразличным формам общественной жизни – в аспекте общего преклонения перед разнообразными яркими манифестациями витального начала, перед «биениями жизни». Самое законченное выражение этого начала он видит в поэзии Верхарна; в ней – «ожесточенная воля художника-эпика, художника-ваятеля, борющегося с расплывчатостью жизни, да и в среде жизненных явлений избирающего для изображения лишь проявления стихийной или волевой мощи»; в ней и новое совершенное воплощение национального фламандского типа, преодолевающее, разумеется, в восприятии Коневского свои конкретно-исторические очертания и благодаря творческой силе мастера обретающее высший смысл: «Вергэрен – достойный преемник Рубенса, Тениерса и Иорданса по преображению родного народа своего в вечное знамение буйного потока плоти. ‹…› Но живой энергией, сообщенной ему лоном того же родного края, он, конечно, неизмеримо вырастал из граней этого быта, и перед порывом этой энергии должны были расступиться стены и плетни фламандских сел. В тоске сумеречных осенних полей он вы´носил страстную мечту о борьбе самовластной воли с ширью мира».[125] Столь же высоко, как и Верхарна, Коневской ценит и почитает гораздо менее знаменитого поэта-современника – Франсиса Вьеле-Гриффена, активно разрабатывавшего в своем творчестве легендарно-исторические и фольклорные сюжеты: «Вьелэ-Гриффин обаевает меня сочетанием тонкой сложности и углубленности мысленных мотивов с изобилием образов, подчас – задушевных, нежных, подчас – державно-великолепных».[126] Ощущение полноты и насыщенности жизни привлекает Коневского в молодом Андре Жиде (совершенно еще неизвестном в России в 1890-е гг.); он переводит фрагмент из его книги «Яства земные» («Les nourritures terrestres», 1897; у Коневского: «Земные кормы»), с похвалой отмечая, что в ней «этот отрешенный от мира умозритель воодушевляется верой в телесные ощущения жизни, и строгая и свободная душа его страстно разливается в самых явных, очевидных ощущениях сознания и тела, ликуя поет, превознося надо всем воображаемым и умственно созерцаемым каждое мгновенное прикосновение жизни к организму человека».