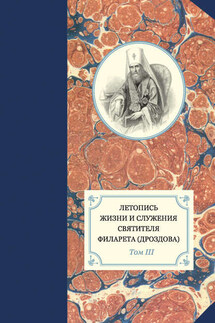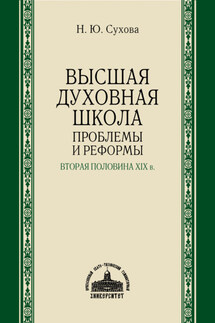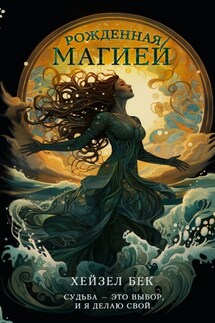Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в. - страница 61
Насущной проблемой духовного образования, в том числе и высшего, оставалась проблема финансовая. Причем эта проблема касалась всех выпускников академий, имевших «академическую степень» и подвизавшихся на служении в духовном ведомстве: как на духовно-учебном поприще, так и на духовном – преимущественно приходском. «Комитет о усовершении духовных училищ» 1807–1808 гг. имел одной из своих главных задач, вслед за разработкой проекта преобразования духовных школ, решение этого финансового вопроса. Было выделено две проблемы, затруднявшие деятельность дореформенной духовной школы: 1) духовные училища имеют бедное содержание, что препятствует повышению образовательного уровня и развитию богословской науки; 2) выпускники духовных школ, определяемые к разным церковным должностям, не имеют достаточных средств ни к дальнейшему усовершенствованию себя в науках, ни к их использованию для успешного и достойного прохождения своего служения[323]. В уже упомянутом выше проекте Комитета 1807–1808 гг. предполагалось через шесть лет после начала реформы (1808) разделить приходские церкви на классы с назначением определенных окладов и распределять по этим местам выпускников духовных школ по соответствию степени учености установленному классу[324]. Однако к 1814 г. стала ясна нежизнеспособность такой системы: во-первых, денежные суммы, выделенные на содержание духовенства, оказались скуднее, чем предполагалось Комитетом; во-вторых, для разделения церквей на классы и назначения соответствующих окладов не нашлось твердого основания; в-третьих, трудно было выдержать четкое соответствие классов и степеней учености кандидатов на священнические места; наконец, определение на священнослужительские места зависело непосредственно от епархиальных архиереев, и ставить эту деятельность под контроль правления академии, состоящего из архимандритов, священников и мирян, было неразумно с церковно-иерархической точки зрения и не этично. Поэтому в 1814 г., при окончательной редакции Уставов духовных училищ, решено было вместо назначения окладов к церквам на причты оклады присваивать лично получающим ученые степени[325]. Доктору богословия было назначено 500 руб. ежегодно, магистру – 350 руб., кандидату – 250 руб., к каким бы церквам они ни поступали. Но так как в основе этих окладов лежала изначальная идея разделения образованного духовенства по степеням «учености», эти оклады сохранили название «классных окладов по ученым богословским степеням»[326]. Классные степенные оклады выплачивались и преподавателям духовно-учебных заведений, если они имели священный сан или «давали обещание принять таковой», то есть не выходили из духовного звания.
Конечно, это поощрение личной учености духовенства имело и оборотную сторону. Выпускники академий, имевшие кандидатские и магистерские ученые степени, очень редко поступали на священнические места к сельским церквам, поэтому сельское духовенство, имевшее лишь семинарское образование, лишалось вовсе пособий из капиталов КДУ. Эту проблему пытались решить неоднократно. Так, святитель Филарет (Дроздов) по просьбе императора Николая I несколько раз составлял проекты привлечения образованных священников, хотя и не имевших академических степеней, к служению в сельских церквах. В 1826 г. он предлагал предоставить КДУ право назначать классные оклады, по примеру высших ученых степеней, и выпускникам семинарий, определяемым на малообеспеченные сельские приходы: выпускникам 1‑го разряда, получившим звание студента, по 200 руб., а выпускникам 2‑го разряда – по 180 руб. в год