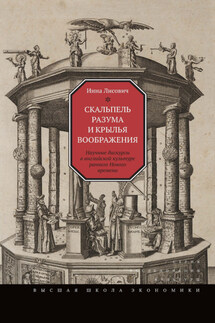Скальпель разума и крылья воображения. Научные дискурсы в английской культуре раннего Нового времени - страница 66
Следуя рассуждению Сидни, поэму Лукреция «О природе вещей» можно отнести скорее к третьему типу, чем ко второму, поскольку Лукреций силой своего воображения пророчески представил невидимые человеческому глазу атомы и описал универсальный принцип мирового движения:
С. Гринблатт показывает, как копирование и перевод этой древней книги напитали Ренессанс, вдохновляя таких художников, как Боттичелли, и таких мыслителей, как Джордано Бруно, сформировали мысль Галилея и Фрейда, Дарвина и Эйнштейна, оказали революционное влияние на авторов от Монтеня до Томаса Джефферсона. По мнению ученого, влияние на мыслителей Ренессанса оказало не только наслаждение прекрасными стихами Лукреция о природе, но прежде всего его идея об «отклонении», которой Лукреций дает разные названия («declinatio», «inclinatio» или «clinamen»)[377], где проявляется творческое свободное естественное начало, которое противостоит линейному движению, поскольку позволяет отклониться, повернуть в сторону. Таким образом, по мысли Гринблатта, поэма Лукреция послужила началом отступления от традиции, что и привело к эстетической и научной революции, и последующим открытиям, произошедшим благодаря «виражу» мысли: «Эпоху Возрождения можно охарактеризовать интеллектуальным “отклонением” от магистрального идеологического направления, переворотом, направленным против ограничений, которыми веками сковывались желания, любознательность, индивидуальность человека, стремления к познанию мира и удовлетворению вожделений тела»[378].
Наука, по мнению Бэкона, также подчиняется принципу наслаждения, как с точки зрения красоты, так и пользы: «Науками занимаются ради удовольствия, ради украшения и ради умения. Удовольствие обнаруживается всего более в уединении, украшение – в беседе, а умение – в распоряжениях и руководстве делом»[379]. Но Бэкон иначе проводил дискурсивные границы между свободными искусствами в зависимости от пользы, которую может получить человек для повседневной жизни: «В истории черпаем мы мудрость; в поэзии – остроумие; в математике – проницательность; в естественной философии – глубину; в нравственной философии – серьезность; в логике и риторике – умение спорить. “Abeunt studia inmores”. Скажем более: нет такого умственного изъяна, который не мог бы быть исправлен надлежащими занятиями…»[380]. Эту же точку зрения на поэзию разделит и Рене Декарт, признавшийся в своем увлечении остроумием: «Я высоко ценил красноречие и был влюблен в поэзию, но полагал, что то и другое больше является дарованием ума, чем плодом учения. Привлекательность фантазии, способность красочно и тонко изъясняться…»[381].
В бэконианской интерпретации поэзии исчезает библейский пророческий пафос Сидни, но он также отнес ее к свободным искусствам и подчеркнул ведущую роль воображения, причем избрал “wit” (остроумие, остромыслие) в качестве основного свойства поэзии. Остроумие, введенное в европейскую поэтическую моду Джамбаттистой Марино, стало стилистической чертой маньеризма и «метафизического стиля» в английской поэзии конца XVI – первой половины XVII в., признаком позднего Ренессанса и барокко. Остроумие с помощью воображения предполагает некий мыслительный вираж, который стремится восстановить целостную картину мира, связать физический мир, данный в чувственном восприятии, с метафизическим, доступным для интеллектуального познания. Поэзия в пределах знаковой реальности оперирует предметами по законам, заложенным Создателем, в поисках небывалых (далековатых) связей.