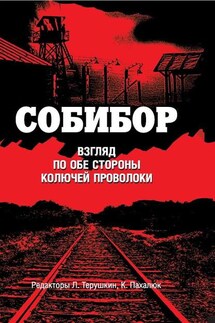Скандинавский эпос - страница 79
Неизвестно, в частности, существовала ли у других германских народов мифологическая поэзия, аналогичная эддической. В отличие от героических песен «Старшей Эдды», ее мифологические песни не имеют никаких соответствий у других германских народов. Но поскольку эти песни очень разнообразны в жанровом отношении, можно предполагать, что они – результат длительного литературного развития. В эддических мифологических песнях представлен чисто повествовательный жанр («Песни о Трюме» и «Песнь о Хюмире») и поучения в житейской мудрости («Речи Высокого»), чисто драматический жанр («Поездка Скирнира») и жанр мудрой беседы («Речи Вафтруднира», «Речи Гримнира», «Речи Альвиса», «Песнь о Хюндле»), подобие бытовой комедии («Песнь о Харбарде» и «Перебранка Локи») и рабочая песнь («Песнь валькирий» и «Песнь о Гротти»). Но есть среди них и такие песни, которые нельзя подвести ни под один из этих жанров («Прорицание вёльвы», «Песнь о Риге»). Подробнее обо всех этих жанрах см. в комментариях к отдельным песням. Что касается содержания песен «Старшей Эдды», то в них есть и пророческий пафос, и веселая шутка, и холодное наблюдение, и наивная сказка, и злая насмешка. Общее для всех них только то, что их мир – это реальный мир, мир человеческой практики, мир, в котором нет, в сущности, ничего потустороннего.
Пантеон «Старшей Эдды» – это примитивное человеческое общество, дикое племя, которое воюет с соседним племенем, применяя силу или хитрость, совершает походы, берет пленников или заложников, похищает у соседнего племени имущество или женщин, но прежде всего борется со злыми силами, со всем тем, что угрожает его жизни и жизненным ценностям. Злые силы в мифологических песнях «Старшей Эдды» – это великаны (ётуны, турсы) и великанши, и к последним относится также Хель – смерть.
Боги «Старшей Эдды» – это те же люди. Они не идеализированы, не абстрактны и ни в каком отношении не лучше людей. Они даже не бессмертны и настолько очеловечены, что образы их разнообразней, сложней и конкретней, чем образы эпических героев в героических песнях. Ваны, асы и асиньи щедро наделены человеческими слабостями и пороками и по своему моральному уровню значительно уступают эпическим персонажам. Впрочем, за исключением «Прорицания вёльвы», в мифологических песнях «Старшей Эдды» нет осуждения порока с точки зрения высокой морали. В них мораль вообще примитивнее, чем в героических песнях. Может быть, это объясняется тем, что мифы (но не мифологическая поэзия!) древнее сказаний о героях. Однако отсутствие моральной оценки в мифологических песнях «Старшей Эдды» можно объяснить и тем, что отношение людей к богам вообще в них не освещается. Не потому ли характер этого отношения часто истолковывается исследователями столь различно?
Реалистичность изображения богов «Старшей Эдды» – это все же, конечно, не реализм в современном смысле. Считать Одина и Тора олицетворениями двух противостоящих друг другу классов – военной аристократии и земледельцев – такое же упрощение, как сводить все в мифах к сентиментальному олицетворению явлений природы. Один и Тор не могут быть связаны с классами-антагонистами уже потому, что мифы о них возникли в доклассовом обществе. Мифология доклассового общества – это не рационалистическая система, не идеальная канцелярия, в которой каждый бог ведает делами строго определенного характера: грозой или солнцем, водой или воздухом, трудящимися или аристократами.