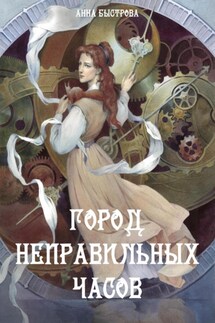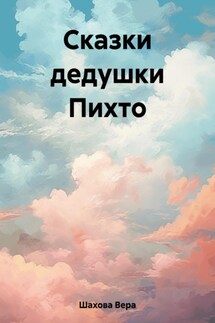Сказки братьев Гримм (сборник) - страница 2
«Жил-был крестьянин; денег и земель у него было вдоволь, но одного ему недоставало – детей. Встречает он, бывало, в городе на базаре других крестьян, а те над ним смеются и спрашивают, почему он с женой не занимается регулярно тем, что делает его скотина. Может, не знают как? В конце концов он потерял терпение и, вернувшись домой, выругался и сказал:
– Будет у меня ребенок! Пусть хоть еж, а будет! («Ганс-мой-Еж», стр. 347).
Скорость развития сюжета головокружительна. Она возможна, только если вы путешествуете налегке, никакой лишней информации, как в современной литературе: ни имен, ни описания внешности или места действия, социального контекста и т. д. нет и в помине. Поэтому и персонажи выходят плоскими. В сказке гораздо важнее, что происходит с героями или что они делают, чем их характеры.
Когда пишешь такую сказку, часто не знаешь, какое событие действительно важно, а какое является лишним. Всякий, кто хочет научиться рассказывать сказки, должен более чем внимательно изучить «Бременских музыкантов» (стр. 167). Это одновременно простенькая небылица и настоящий шедевр. В изложении этой истории нет ничего лишнего, и каждый абзац продвигает историю вперед.
Образность и описание
В сказках нет никакой образности, кроме самой очевидной. Белая, как снег, красная, как кровь, – не более того. В них также нет почти никаких описаний природы или характеров персонажей. Лес – дремучий, принцесса – прекрасная, ее волосы – золотые, большей информации и не требуется. Когда тебе хочется узнать, что же будет дальше, цветистые описания только раздражают.
Хотя в одной из сказок есть отрывок, в котором прекрасное описание так успешно сочетается с развитием сюжета, что одно немыслимо без другого. Сказка называется «Можжевеловое дерево», а упомянутый мною пассаж следует после того, как женщина загадала желание родить ребенка красного, как кровь, и белого, как снег (стр. 214). Ее беременность развивается на фоне сменяющих друг друга времен года:
«…Прошел один месяц, и растаял снег.
Прошло два месяца, и все зазеленело.
Прошло три месяца, и распустились на земле цветы.
Прошло четыре месяца, и побеги на всех деревьях в лесу окрепли и переплелись между собой, и запели птицы так громко, что зазвенел лес, и опали с деревьев цветы.
Прошло пять месяцев, и стояла однажды женщина под можжевеловым деревом, от которого шел такой приятный аромат, что сердце у нее затрепетало в груди, и упала она на колени от радости.
Прошло шесть месяцев, сделались плоды большие и сочные, и пришло к ней спокойствие.
Когда прошло семь месяцев, набрала она можжевеловых ягод и столько их съела, что сделалась больной и печальной.
После того как прошел восьмой месяц, позвала она своего мужа, заплакала и сказала:
– Если я умру, похорони меня под можжевеловым деревом».
Прекрасно, не правда ли? Но (как я предположил в примечаниях к сказке на стр. 226) эта история прекрасна на свой, особый лад: у любого, кто возьмется пересказывать, не получится ее хоть как-то улучшить. Она должна быть передана так, как есть. По крайней мере, описание разных месяцев нужно очень аккуратно связать с развитием малыша в материнской утробе. Ведь в дальнейшем параллельный рост и можжевельника и ребенка будет служить художественным средством для его воскрешения.
Но этот пример – яркое и редкое исключение. В большинстве сказок описания отсутствуют, а персонажи – довольно плоские. Правда, в поздних изданиях пересказы Вильгельма усложняются, становятся более красочными, но тем не менее все сосредоточено на том, что происходит сейчас и что произойдет дальше. Формулировки настолько общие, а отсутствие всяческого интереса к деталям так заметно, что ты испытываешь настоящее потрясение, читая следующее предложение из сказки «Йоринда и Йорингель» (стр. 291):