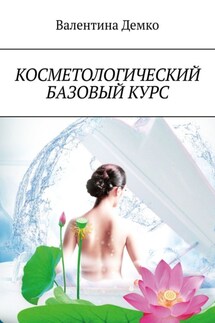Славянский союз: необходимость и возможность - страница 14
Глубокие корни имело на Руси слияние суда с управлением. Князь и его посадники были одновременно судьями. По мере создания централизованного государства судебная власть переходила к царю, боярской думе и приказам, а на местах – к наместникам и волостелям. Существовали судьи «с докладом» и «без доклада»: решения первых утверждались государем, вторых – могли быть обжалованы. Суд всегда был источником дохода для правительства. Кто знает, быть может, из тех времен идет традиция продажного суда, сохраняющаяся поныне?
Судебная власть в России на протяжении столетий не была выделена из иных властей. Только судебная реформа 1864 г. дала России самостоятельное правосудие, отделила суд от администрации. Но в силу загадочной особенности нашего политического процесса вслед за реформой последовала контр-реформа. Главный удар по правосудию нанес Октябрь 1917 г. Дореволюционные суды («мумии», «алтари умершего права», «гнусные комедии») были ликвидированы, поскольку большевики не признавали «буржуазных предрассудков» независимости судей. Они ввели местный суд – тройку из судьи и заседателей, избираемых Советом. Ревтребуналы вершили массовые казни без суда, в административном порядке. В частности, в Петрограде вершились «зверские ежедневные самосуды», «издевательства над офицерами, когда их бросали с моста в воду».
Самая большая беда была в том, что народ принуждали строить теоретически сконструированный «самый справедливый» строй. Печальные итоги этого строительства на крови многих миллионов известна. Если первая мировая война унесла 5 млн. человек, то гражданская война «белых» и «красных» стоила России 13 млн. жизней.
Строительство социализма в деревне сопровождалось репрессиями против 10 млн. крестьян. «Охота за ведьмами» в КПСС и в советском обществе к концу 30-х гг. унесла еще 8 млн. человек. Это было не просто насилие, это был настоящий правовой террор. В белой эмиграции за рубежом России оказалось 2 млн. человек.
В лагерях «Архипелага ГУЛАГ» поглощено 20 млн. человеческих жизней. Таких огромных людских потерь на протяжении 50 лет (с 1914 до конца 50-х годов) не несла никогда ни одна страна в мире. Чудовищный масштаб сгинувших людей самым негативным образом сказался на нравственном и правовом состоянии общества. Недаром говорится, что «в России все трагично».
Можно согласиться с мнением, что революционная ситуация в марте-октябре 1917 г. во многом напоминает ход событий после августа 1991 г., когда был потерян темп преобразовательного движения и допущены серьезные просчеты. Этим воспользовались радикальные политические силы, оказывая давление на власть и раскачивая «народную» лодку. Немало политиков жаждут любой ценой победить «врага», то ли в «красно-коричневом», то ли в «коммунистическом» обличье. На деле же враг – инакомыслие, борьба с которым уже вызвала призрак диктатуры и справа, и слева.
Как и в 1917 г., самую разрушительную работу выполняют силы, политизирующие народ, стравливающие одну его часть с другой по социальному, национальному либо идеологическому расчету. История вновь напоминает, что правительство гибнет, если не имеет собственной устойчивой социальной основы, не получает поддержки производителей и предпринимателей.
Революция 1917 г. приобрела в России насильственный характер. Через семь десятилетий свержение тоталитарного режима вновь сопровождалось разрушением.