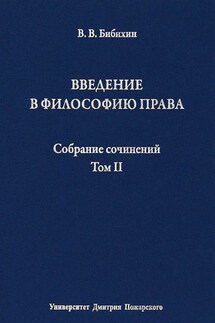Собрание сочинений. Том III. Новый ренессанс - страница 37
Позднероманская сумеречность была преодолена готикой (которая называлась тогда «французской манерой»), возникшей в конце той же первой половины XII века. Образы демонических существ были изгнаны из внутренних помещений храма; человеческие изображения стали возвышенно-реалистическими; вместо церквей-склепов с массивными стенами и гнетущими сводами поднялись нефы многометровой высоты, на которой ажурные нервюры казались моделью платоновского неба; витражи превращали огромное внутреннее пространство в волшебную обитель света; грозное колесо фортуны над входом было переосмыслено в лучащийся символ Солнца правды. Интеллектуалистская философия (Шартрская школа) и мистическая теология (Бернар из Клерво) так называемого французского ренессанса XII века, хотя и враждовали между собой, были одинаково далеки от настроений страха и обреченной подвластности судьбе[31].
Однако в самом конце готики еще более неистовый демонизм дал о себе знать у Иеронима Босха, писавшего между 1480 и 1516. Ровесник Леонардо да Винчи, Босх создает в противовес новому космическому искусству высокого Ренессанса адский мир, имеющий свою логику хаоса и населенный не просто уродливыми людьми и падшими ангелами, но большей частью неслыханными изощренно въедливыми чудовищами и зловещими аппаратами в окружении одичалых пространств и развалин, освещенных не солнцем и луной, а пожарами и странными заревами. Композиция босховских картин тоже дезорганизована, изображаемое нескладно, шатко, пустотело, призрачно. Как у Ван Эйка небо вдвинулось в земное бытие и освятило его собою, так у Босха ад, словно прорвав невидимые запруды, пропитал всё земное своей гнилостью. Божественному у Босха едва достает сил устоять перед напором ада, который достигает даже до Эдема, извращая его в рай сластолюбия. Конечно, разгул нечистых сил у Босха остается всё же лишь искушением внутри христианского мировосприятия. Но Зедльмайр видит историческую закономерность в том, что Босх был извлечен из забвения в 1920-е годы и признан одним из родоначальников сюрреализма.
Отдельные черты современного искусства рано мелькнули и в так называемом маньеризме, антиклассическом стиле 1520–1590 годов. Зедльмайр предлагает осмысливать маньеризм и отслаивать его от параллельно существовавшего позднего Ренессанса исходя из маньеристского мирочувствия: это сомнение и отчаяние, внутренний раскол и страх, завороженность смертью. Классическая форма здесь каменеет, застывает, мертвеет; верх берет вычурная надуманность. Маньеризм тянется к холодным и неприступным материалам вроде хрусталя, предпочитает панцирь человеческому телу, маску – лицу; он возвышен, загадочен, чересчур духовен и смертельно серьезен. Маньеризм тоже был заново открыт в 1920-х, и причина здесь возможно в том, что он страдал той же болезнью, что и модернизм.
Еще одно явление, современное маньеризму, но, как считает Зедльмайр, независимое от него, перекликается с искусством XX века: это принижение человеческого образа в живописи Питера Брейгеля Старшего. Брейгель смотрит на человека со стороны как на причудливую странность, залетного инопланетянина, и человек предстает в беспощадном свете: мелким, испорченным, зловредным, придурковатым, неуклюжим. Человеческий мир опять хаотичен и бессмыслен, обуян бесовщиной, одержим смертью. Замечательно внимание Брейгеля к детям, безумцам, уродам, эпилептикам, слепым, к состоянию опьянения, к поведению массы, к обезьянам, т. е. к тем аномалиям и отклонениям сознания, которые особенно интересуют современную психологию. Зато природа на картинах Брейгеля рядом со скверной человека величественна и чиста. Этим, и еще явственным у него чувством стыда за человека и сочувствием к нему, Брейгель отличается от модернизма.