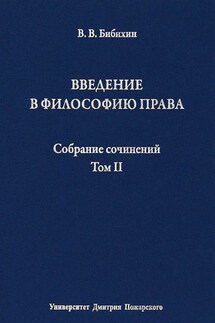Собрание сочинений. Том III. Новый ренессанс - страница 6
Чем выше оценивают в XX веке человека, тем острее испытывают нужду в подстраховке на случай срыва. В виду грозящей инфляции надо заранее говорить о человеке завышенно хорошо, поднимать предельно хоть эту планку, вплоть до того чтобы в новой конституции даже записать против всякой очевидности, что личность по значимости первее государства. Чем больше взвинчивается обещание человеку, успокаивание его, гарантирование ему всего, от культуры до благосостояния, тем меньше под этим возвышением человека остается почвы. Сегодняшнему беспределу вполне отвечает вознесение его <человека> выше государства. Что еще можно придумать. Он высшая ценность, его свободное развитие есть цель истории.
Когда заходит разговор о человеке и темой становится гуманизм, отношение к человеку бывает бережно и подчеркнуто благоговейно. Как еще ублажить эту драгоценность, какие еще почести ему оказать, что еще ему обещать. К человеку вежливое отношение, и оно напоминает анекдот об отношении к еврею в послевоенной Германии, болезненно переживавшей комплекс коллективной вины за holocaust, «всесожжение». Водитель, чью машину не по его вине задели и помяли, выходит на проезжую часть, приближается к виновнику, который продолжает сидеть за рулем, снимает перед ним шляпу и вежливо спрашивает: Sie sind Jude, вы еврей? – Nein. Сразу поведение потерпевшего совершенно меняется, он снова надевает шляпу и свирепо кричит: Raus, schwarze Schwein! – Примерно так же вежливо, болезненно-предупредительно и виновато отношение к Человеку. Сняв шляпу, вежливо склонившись. Признав его в начале нашей конституции высшей самоцелью. Заговорив повсюду о «человеческом факторе». Открыв кафедры антропологии. Основав гуманный, гуманитарный, серьезный, проблемный журнал «Человек». Плохо такое предупредительное, ласковое, любезное, с придыханием отношение к человеку? Наверное, не плохо, всякое благоговение хорошо. Но только за этой подчеркнутой, культивированной культурной предупредительностью может вдруг ни с того ни с сего последовать: вон, грязная свинья! Тот самый Человек, его самоценная личность, который в нашей новой конституции провозглашен высшей ценностью, выше государства, был сразу же брошен, запущен в новый неслыханный, добро бы еще важный эксперимент с идеей, а то не имеющий ничего такого, что было бы похоже на новое слово в истории, просто так эксперимент: а посмотрим, если еще и так прижать людей, чтобы им стало уж совсем странно, как они начнут у нас вертеться.