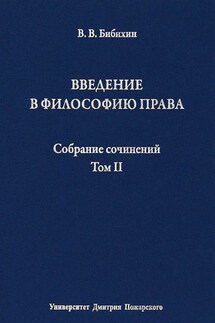Собрание сочинений. Том III. Новый ренессанс - страница 9
Не будем поэтому, всё равно у нас ничего не получится, устраиваться на свое новое постклассическое житье своими теперешними средствами. Так или иначе отцы вернутся. Ренессанс нам поэтому как необходимость предстоит. Наш путь ведет к древности (опять: мы пока не знаем, что такое древность), и вовсе не обязательно так, что надо будет доставать воду ведром из колодца или водить хороводы на свадьбу и на Троицу, а древность расположилась прямо посреди нашего беспредельного размаха как само существо и предельный предел всякого размаха. Обратить внимание на то, что мы говорим и делаем, когда что-то говорим и делаем, всё равно придется. Лучше мы обратим внимание раньше.
Ренессанс тогда окажется сутью истории, которая была и остается порывом к возвращению. Почему к возвращению надо прорываться? Почему не удастся спокойно вернуть, скажем, старое название Ленинграду? Анна Ахматова гневно ответила на Западе эмигрантам, которые сделали ей замечание, зачем она, в Петербурге родившаяся, называет город Ленинградом: не в Петербурге был предельный опыт блокады. Прежнее не может быть заказано по образцам, раннего по-настоящему еще не было, древность осуществляется в будущем, которое не воображаемое, а имеет все черты настоящего, в том числе и его загадочный беспредел.
Ренессанс в своем существе не склеивание прошлого из остатков, а искание настоящего. Настоящим оказывается то будущее, в котором настает древнее. Оно возвращается впервые, потому что было оно без того, чтобы вместить все настоящее. Древности прошлого как настоящего еще не было, она будет. Для этого требуется не отстраивать музеи и реставрировать мертвые языки, формы культурной деятельности, а собирать всё настоящее, т. е. мир. Ренессанс вводит в узел, в котором завязывается история, т. е. настоящее время, которое должно наступить. Как-то хотя бы издалека подступить к этому узлу мы попробуем. Дело, как уже говорилось, не в определении понятий и построении концепции, а в обращении внимания на вещи, в которые мы так или иначе уже втянуты.
Ренессанс, хотя Возрождение неизбежно так иногда представляют, не имеет отношения к введению образцов, на которые ориентируются и которые тем самым восстанавливают. Уважение ренессансных людей к классике приходит от знания, что древность не позади, в давних авторах, философии, поэзии, а в том настоящем, которое наступает, захватывая нас. Тошнотворная иссушающая реанимация обычаев, форм, имен противоположна настоящему Ренессансу. Для начала должно вернуться трезвое знание, что возродиться по своему плану и намерению нам также не под силу, как и родиться. «Долг исторического творчества», о котором мы читаем в благонамеренном журнале – это всё то же тоскливое пустое уловление себя за хвост, полусонное занятие одинокого, который тупо надеется, что если он еще больше исхитрится и поднатужится, то какая-нибудь третья волна вынесет его на золотые пляжи. Настоящий Ренессанс смиреннее. Он возрождение той древности, которая всегда уже настоящее, потому что только настоящее наступает. Не мы его устраиваем, оно само настоящее и требует от нас не чтобы мы распланировали его, а чтобы просто обратили свое внимание. Только так решается задача, загадка, поставленная Чаадаевым: нас минула история мира, мы на ее обочине или нет? Чаадаевский вопрос снимается, если настоящее не в Италии или во Франции, а в настающем. Такое настоящее умеет быть и нигде. Мысль, которая способна иметь дело с ранним, древним как настоящим, принадлежит не «национальной» культуре. Итальянский Ренессанс – не национальное явление, хотя ничего интернационального там нет, и никаким другим, кроме как своим, он не хочет быть.