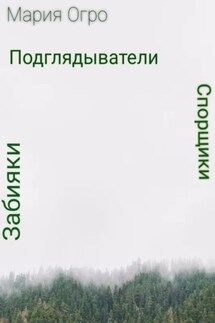Солидарность как воображаемое политико-правовое состояние - страница 2
Отмар Шпанн (один из тех, кто в науке XX века реабилитировал идею органического государства) указывал на тот факт, что отнюдь не люди своим взаимодействием создали, составили социальные целостности, поскольку «люди сами по себе», как унифицированные и атомизированные единицы не существуют, как «не существует также людей, определяемых по их отношению к народу, прежде их принадлежности к народу», точно так же не существует людей, которые «воевали прежде, чем принадлежали к целостности, в которой воевали, и к сверхцелостности, против которой воевали» (т. е. сверхцелостности, в пространстве которой имело место само это противоположение). Другими словами, центр тяжести самого определения лежит именно в этом «прежде», которое не позволяет составной части (члену) целого быть и оставаться реальностью самой по себе>[5]. Наличие связки создает целостность и обесценивает составную часть, таинственное и загадочное социальное коренится именно в связи, а не в субстанции или структуре, витальная сила организма проявляется только в его единстве: господство социальности проявляется тайно, в ближайшем окружении и в малозначительных явлениях. Важность «чудесного» в социальной структуре, того, что в конечном счете обеспечивает влечение и соблюдение единства, подчеркивал еще Дюркгейм: речь у него шла о некоей общей идее, нуждающейся в актуализации. Однако признание того факта, что существует «теснейшая связь витализма… с чудесным», являлось подлинной подспудной силой, движущей общностью и обществом и обеспечивающей их постоянство и могущество>[6].
Единство и целостность как бы заданы изначально: чтобы обнаружить их, можно обратиться к связующей идее или связующей форме как таковой. В этом случае воля, соглашение, принуждение и другие факторы представляются лишь вторичными и дополнительными. Ф. Теннис, стремясь найти изначального инспиратора единения, говорит о «сущностной» воле, противопоставляя ее воле «избирательной»: изначальное единство сущностных воль выступает у него как «взаимопонимание». Какими бы ни были формы развития этого единства, его содержание оказывается столь обширным, сколь великим является та интенсивность, с которой она «утверждается в качестве обычая и права», имеющих безусловную значимость для членов социума. Именно из него эти члены выводят свое собственное право, поэтому свобода и собственность отдельных людей представляют собой лишь модификацию свободы и собственности всего интегрального существа>[7]. Взаимные претензии и соглашения, заключаемые индивидами, производятся в строгих рамках общества (олицетворенного и представляемого государством), которое стремится любыми путями сохранить свою целостность в первую очередь и удовлетворить интересы индивида, во вторую.
Теория «общественного договора» пыталась объяснить факт создания и сохранения социального единства фактом заключения такого договора. Следуя за Гоббсом, Руссо не только формализует идею договора, но и мифологизирует ее, делает абсолютной. Договор заключается некими абстрактными и унифицированными в своей сущности людьми, которые почти поголовно стремятся к заключению соглашения между собой и с выбранными ими представителями. Ф. Теннис иронизирует по этому поводу: «Абстрактный человек, самый искусственный, самый правильный, самый рафинированный из всех людей – выдумка изобретательного ума, и на него следует смотреть как на призрак, неожиданно появившийся средь бела дня в размеренно текущей реальной жизни». Абстрактную природу философско-правового индивида выражает именно «общественный договор», причем выражает не реальную волю реальных людей, а только воображаемое согласие, построенное на предположении, что «любой разумный человек не может не хотеть этого договора». Но участник «общественного договора» также придуман, как исключительно разумное существо. С этой точки зрения не реальные люди, а абстрактная и упорядоченная схема, при этом многократно повторяемая, становится стороной в договоре. (Г. Радбрух ссылается на Гегеля, который говорил, что именно римляне выработали понятие «индивид без индивидуальности», и именно в Риме мы находим эту «свободную всеобщность или абстрактную свободу», которая, с одной стороны, ставит абстрактную власть государства, политику над конкретной индивидуальностью, а с другой – в противовес этой всеобщности формирует саму личность, объективную свободу «Я», которую следует отличать от индивидуальности)