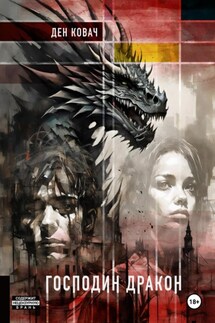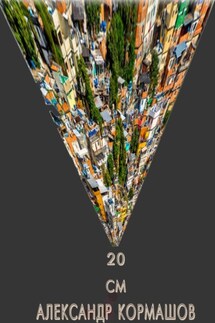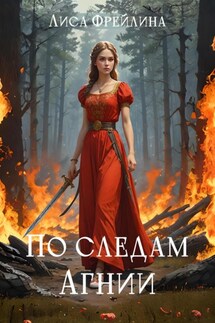Сон, в котором я пробуждаюсь - страница 24
Религия – ещё один пример того, как абстракция становится конкретной. Вера в божественное, что само по себе является чистой абстракцией, материализуется в форме храмов, священных текстов и ритуалов. Мы окружены этими символами, и они начинают формировать нашу повседневную жизнь, создавая конкретные правила поведения, моральные нормы и культурные традиции. Для верующего человека абстракция Бога становится конкретной реальностью, в которую он погружается ежедневно.
Но, возможно, самый яркий пример конкретной абстракции – это само время. Время – это концепция, которую невозможно увидеть или потрогать. И всё же, мы создали часы, календари, таймеры, которые делают время "видимым". Мы измеряем его, планируем свою жизнь в соответствии с ним, строим своё будущее на его основе. Абстрактное понятие времени стало основой для целых систем и структур, без которых современная жизнь была бы невозможна. Оно управляет нами, направляет нас и ограничивает нас – как река, текущая в заданном русле, хотя её русло было вырыто нашим собственным разумом.
Всё это подводит нас к выводу, что абстракции – это не просто бесплотные идеи, существующие только в голове философов. Это силы, которые, пройдя через фильтр человеческого сознания, становятся плотью нашего мира. Они строят города и империи, создают законы и традиции, и в конечном итоге формируют то, что мы называем реальностью. Конкретная абстракция – это, по сути, наше признание того, что реальность, как мы её понимаем, есть не более чем объективация нашего коллективного сознания.
Но если абстракции так могущественны, стоит ли удивляться, что они иногда оборачиваются против нас? Мы создаём системы, которые нас же и порабощают, мы формируем понятия, которые начинают нас ограничивать. И тогда, возможно, единственный способ вернуть себе свободу – это вновь сделать абстракцию абстрактной, осознав, что её материальность – это всего лишь иллюзия, созданная нами самими.
Q.S., marginalia in somnis.
Abstrahere est dominari.
Комментируя данный фрагмент, невозможно не вспомнить римское понятие auctoritas – власть не декретная (imperium), но внутренняя, протоонтологическая, восходящая к акту признания, признания не столько логического, сколько экзистенциального. Она не навязывается, но пронизывает, не требует повиновения, но формирует саму возможность мысли.
Читатель, обладающий терпением инквизитора и сомнением аскета, уже постиг, что речь идёт не об эволюции символа, а о его muta potentia – скрытой, многоликой способности внедряться в сознание под видом истины.
В начале – granum, concha, signum: зерно, ракушка, знак. Потом – codex, exercitus, templum. Возникает порядок, вырастает конструкция. Но суть остаётся неизменной: мы не столько изобретаем форму, сколько ретроспективно убеждаем себя в её необходимой реальности. Это – post factum credulitas, вера, возникающая после рождения системы.
Ирония автора – subtilis, sardonica – проявляется в финальном повороте: чтобы освободиться от гнёта абстракции, не нужно разрушать её, достаточно вспомнить, что она – ludus mentis, игра ума. Но игра, где стерта граница между condicio и ontologia, между соглашением и бытием. Мы уже не различаем pactum и dogma.
––
Учитель сказал:
– Когда время идёт – ты бежишь. Когда деньги говорят – ты молчишь. Когда власть дышит – ты исчезаешь.
Ученик сказал:
– Но всё это – иллюзия, phantasma mentis!