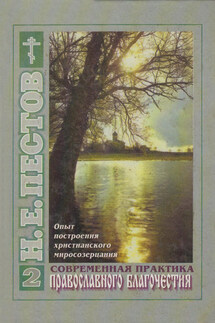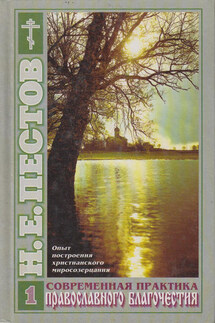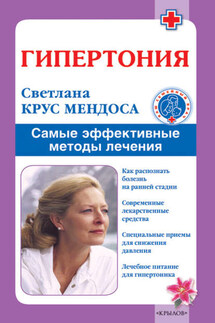Современная практика православного благочестия. В 2-х томах. Том 1 - страница 44
Следует всегда, вместе с тем, учитывать, что в устах атеистов смерть обозначает совершенно иное понятие, чем в устах христианина. Для первых смерть есть полное прекращение жизни. Для христианина – это только переход из одной формы в другую.
Если задуматься над вопросом о духовном значении смерти тела, то по многим причинам можно понять ее временный характер для падшего человечества в полноте грядущего Воскресения.
И поэтому смерть тела не «нелепа», как говорят про нее люди мира, а необходима и целесообразна.
Как пишет архимандрит (патриарх) Сергий: «Начало греха – плоть всегда остается в человеке, всегда его искушает, всегда препятствует человеку быстро и легко стать святым.
Поэтому и познание Бога и получение блаженства небесного не может быть здесь, на земле, совершенным.
Нужно нашему земному миру обновиться, извергнуть из себя все греховное, чтобы потом во всей полноте и совершенстве воспринять в себя грядущее царство.
В этой нужде обновиться – весь смысл разрушения мира, в этом и смысл смерти каждого человека».
Еп. Аркадий Лубенский говорит: «Смерть для многих есть средство спасения от духовной гибели. Так, например, дети, умирающие в раннем возрасте, не знают греха.
Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Что представляла бы из себя жизнь, если бы вечно существовали убийцы – Каины, Иуды, – предающие Господа, Нероны – люди-звери и другие?»
А Н. так пишет в своей книге «Путь чистоты и священного молчания»:
«Откровение тайны смерти – новым, нездешним светом озаряет и жизнь. Вся красота и таинственная, бездонная глубина ее раскрываются лишь перед лицом надвигающейся смерти.
На какой бы ступени духовного развития человек ни стоял, приближение смерти вызывает в нем прежде всего необычайное обострение чувства жизни[5]. Вся красота и ценность жизни, наверное, никем не переживается с такой силой, как приговоренным к смерти.
Человеку кажется тогда, что если бы только удалось ему сохранить жизнь, он не потратил бы даром уже ни одного мгновения. Как величайшее благо воспринимается самая возможность жить и дышать, слышать, видеть и входить в общение с окружающей природой и другими людьми. Поистине, смерть поет самый торжественный и чарующий гимн жизни, потому что только перед лицом смерти дано человеку увидеть ее настоящую красоту.
Образ смерти бесследно рассеивает жалкое марево пошлости и нудных мелочей жизни, обычно застилающих ее истинный лик от духовного взора человека. В нем единственное лекарство против духовного паралича – плоского самодовольства жизненного квиетизма.
Физическое бессмертие нашей природы в ее теперешнем состоянии – порабощенности греху – было бы безвыходным духовным тупиком для нее, так как слабый дух наш был бы всецело и навеки захвачен в плен стихийными силами материального и душевного мира».
«Не только смерть, – говорит Лафатер, – одухотворяет наше безжизненное существо, но одна мысль о смерти придает более прекрасную форму жизни.
Через смерть доносится до нас голос вечности и открывается прозрение в иные миры.
Таинственные голоса жизни, исходящие из ее бездонных глубин, говорят человеку о том, что за пределами видимого и невидимых миров, им переживаемых, пребывает Вечный Первоисточник всего сущего, от Которого все изошло и к Которому все возвратится».
Когда хоронят священников, то совершающие обряд отпевания священнослужители надевают белые одежды, как в день духовного торжества, день конца скорбей и начала радостей для усопшего. Но ведь каждый из христиан принадлежит к «царственному священству» (1 Пет. 2, 9).