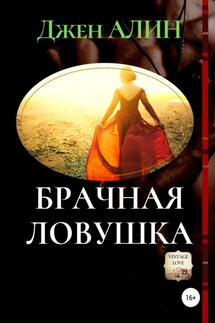Спекулятивный реализм: введение - страница 6
Например, в понимании Мейясу спекуляция – это мышление недогматического абсолютного, то есть абсолюта без абсолютного сущего (предмета метафизического мышления), учитывающее, однако, некоторые неотменимые достижения критики со времен Канта. Мейясу долго идет к такому спекулятивному мышлению, пытаясь преодолеть корреляционизм изнутри посредством абсолютизации его второй составляющей – фактичности. При этом он постулирует прямую постижимость структур самой реальности при помощи математики, что предполагает реанимацию интеллектуальной интуиции, которую Кант запретил как недоступную конечному человеческому познанию. Спорный ход, не принимаемый никем из спекулятивных реалистов.
В то же время Харман, хотя и признает удачность корреляционизма как критического инструмента, не преодолевает его изнутри, а попросту оставляет в стороне и строит свою онтологию объектов (впоследствии Мейясу подвергнет такую стратегию критике за «логику отмежевания» как доктрину «насыщенного другого места»[26]). Он делает это в догматическом ключе, абсолютизируя и наделяя корреляционным кругом все, что существует (при этом парадоксальным образом сама позиция объектно-ориентированного онтолога по сути остается без такого круга). Что это за «все»? Вопрос о критерии выделения объектов в онтологии Хармана повисает в воздухе, а декларируемый им принцип приписывания равного бытия всему от зубных фей до электронов заставляет предположить, что в онтологию объектов без разбора вливаются объекты из всех доступных онтологий. Вследствие этого некоторые критики обвиняли Хармана в зависимости от здравого смысла и калькировании обыденной онтологии. Последнее неприемлемо, в свою очередь, для Брассье, стремящегося устранить все, кроме научного образа реальности.
Кроме того, призывая к спекуляциям, спекулятивный реализм сам начинается с критики «контринтуитивного или даже откровенно странного» способа мышления современной «корреляционистской» философии и в своих призывах отчасти опирается на здравый смысл (назад к самим вещам, прочь из тюрьмы рефлексии), реабилитируя и используя естественную установку, свойственную обыденной жизни и научному познанию.
Можно было бы объединить четверку фигурой очередного коперниканского переворота, предполагающего устранение всего «человеческого» (опыта, языка, дискурса, культуры и т. д.) из центра мышления о реальности, однако эту фигуру можно понимать настолько по-разному, что она едва ли задает строгую рамку; кроме того, в современной философии к ней прибегали для (само) описания слишком часто. С точки зрения здравого смысла, опосредующие инстанции корреляции, вероятно, можно назвать «человеческими», коль скоро опыт, язык, социальные структуры, текст – это что-то из сферы человеческого духа. Тем не менее «человек» или «человеческое» остаются не более чем интуитивно понятными словами, но не содержательно проработанными концептами. Попытки обнаружить их в самой континентальной философии чаще всего будут натыкаться на их определения как раз через такие опосредующие инстанции[27].
Во-первых, будучи в широком смысле трансцендентальными, то есть будучи условиями возможности, они вовсе не обязательно привязаны к такой частной эмпирической вещи, как человек.
Например, между Dasein, как и трансцендентальном единством апперцепции, и человеком нет обязательной связи. Во-вторых, первоначально через эти инстанции концептуализировалась конечность как фундаментальная черта всякого разумного существа, и в результате трансцендентально-эмпирическое (или, например, онтико-онтологическое) устройство легло в основание современной конструкции человека как конечного существа