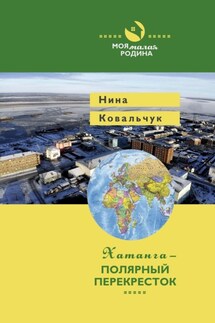Сталинград.Том шестой. Этот день победы - страница 3
«Человек создан для счастья», как заклинание, повторил Ребяков, ощупывая притулившиеся у пряжки ремня «лимонки», и заключил: «Только вот заковыка, Юрок…выходит счастье не всегда создано для него». «Ну да ничего, ничего, брат, – ободрял себя майор. – У нас ещё будь-будь…откроется второе дыхание!2 Но уже через секунду, сам же парировал: «Только вот зачастую, оно приходит с последним вздохом».
Он задержал накалённый взгляд на заледенелой жёлто-багряной луже возле себя, – из мочи и крови. Чуть в стороне от неё лежал разбросанной копной красноармеец. Во лбу, под расколотой каской, зияла дыра, будто ему вбили железный костыль. Глаза выпученные, с лопнувшими сосудами, хранили жуткий застывший блеск зрачков. Комбат перевёл взгляд на руки безжизненно кинутые по сторонам, узрел на белом снегу тёмные ногти, как зреющий чернослив, налитые розовой синевой. Перекошенный рот был сведён последней судорогой предсмертного крика. Среди губ, орошённых кровавой пеной, как фиолетовый баклажан, торчал опухший язык. В мутных сумерках, жесткая, что пескоструй пурга, заметала страшное лицо. И ярко багровел в снегу неведомым листом оторванный с шинели сержантский погон с тремя тусклыми жёлтыми лычками.
Выглянув в третий раз, майор обмер. Фашисты подошли ближе, почти на бросок гранаты. На фоне неба, окатисто очертились тевтонские каски, стволы автоматов, толстые луковицы гранатомётов панцер-гренадёров.
Снова промерцало. Пули свистнули близко. Одна из них щёлкнула в металлический рельс, высекла искристый пучок, срикошетила, зажужжала злым шершнем.
«Чтоб я сдох! Обложили собаки… – кошмар окончательно стал явью – несущий смерть. – Вот и п…ец, Андрюша. Нам ли быть в печали?2
Отчаянные мысли заметались в голове, как птицы в горящей клетке. «Да где же пехтура Абрека? Где автоматчики, которых он обещал дать! Раком они у него что ли ползают! Бойцы…мать их в качель!..»
Он будто увидел себя со стороны: жалкого, грязного. Беззащитного… Ни дать – ни взять; земляной червяк под штыковой лопатой. И тут в нём, словно что-то оборвалось. Совесть, превратившись в цепного пса, впилась в сердце мёртвой хваткой. «Все погибли, а ты жив? Так не бывает. Что доложить комдиву? Как появишься в штабе дивизии и, глядя в его ожидающее лицо, расскажешь о гибели батальона? Как покаяться – повиниться за это?.. Как, вообще, жить с этим ярмом? Мысль о сём была столь же страшной, как и о гибели своих танкистов.
«Судак ты белоглазый…отмороженный! – матом крыл себя Ребяков. – Пр-росрал танковый батальон…Ребят заживо спёк, как каплунов! Нет мне прощения, уж лучше пулю в лоб, чем позор». Эта безумная мысль возникла спонтанно, как чёрт из табакерки. Взорвалась в голове, чтобы прервать непосильные страдания, скрыться от них раз и навсегда. Уравняться со своими павшими боевыми товарищами и остаться здесь…Лежать с ними рядом на этих расколотых-обугленных кирпичах. «Это я…я торопил и толкал их в пасть смерти. Подставлял под взрывы и снаряды врага…Я их убийца».
…Тут вдруг он приметил в развороченном оконном проёме выставленный наружу мятый раструб речного рупора. Из бордовой горловины, чуть погодя, раздался на ломаном русском бодрый голос:
Ахтунг! Фнимание! Слушай, русиван! Мы точно знать, что ты здесь. Германский командование предлагает тебе почётный капитуляция…Кароший обращение, горячий питание, немецкий сигареты. Ты смелый командир, русиван. Мы уфажать твой смелость. Зер гуд! Мы гарантировать жизнь. Ты окружён! Сопротифление бесполезно. Сдафайся! Мы пришли осфободить русский народ от жидоф, комиссароф и колхозных козлоф. Бросай оружие, выходи. Твой война кончен. Не бойся! Мы накормим тебья. Даём три минута на размышление. Потом будем немножко уничтожат тебья. Время пошёл!