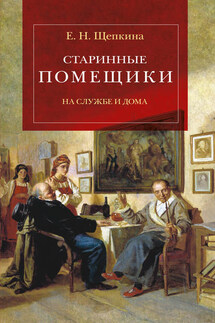Старинные помещики на службе и дома. Из семейной хроники Андрея Тимофеевича Болотова (1578–1762) - страница 7
Сейчас читателю предстоит погрузиться в изучение русской жизни давно ушедшей эпохи. Путешествие это не станет легкой прогулкой, но от этого удовольствие от погружения в прошлое, надеюсь, нисколько не уменьшится, особенно с такими милыми спутниками, как ученый-энциклопедист Андрей Тимофеевич Болотов и его верная исследовательница-биограф Екатерина Николаевна Щепкина.
А. В. Буторов
От автора
Не раз воспользовавшись записками А. Т. Болотова для отдельных очерков>1, с помощью его указаний разыскав по архивным документам его предков XVI и XVII веков, мы решаемся теперь соединить в один связный рассказ все те данные для характеристики нескольких поколений одной и той же семьи из старинного служилого сословия, которые мы почерпнули из многотомных записок. Нас главным образом побудило к этому желание привести в тесную связь поколения допетровского времени с их жизнью и обстановкой, с поколениями первой половины XVIII века. Занимаясь только судьбами представителей служилого класса, мы прерываем свое повествование на том моменте, когда Указ о вольности дворянства закончил историю этого класса. В 1762 году наступает уже другая эпоха с усложнившимися общественными отношениями, с более широкими потребностями; жизнь поколений екатерининского века входит в новые рамки и с ними переносится в XIX век, поэтому посвященные ей две трети записок Болотова смело могут служить материалом для особой цельной работы.
В своем рассказе мы не беремся с одинаковым вниманием и проверкой разобрать все главы нашего источника; в силу этого, признаемся, рассказ выходит неровным, отрывочным. Но записки так подробны, касаются стольких сторон русской жизни даже за первую половину прошлого века, что отчетливый критический разбор требует всесторонней эрудиции, большого труда, кропотливого и мелочного, а это нам не по силам. Следует еще иметь в виду, что записки Болотова не простой дневник, не воспоминания, – это целое литературное произведение, написанное по обдуманному плану в легкой, занимательной форме; автор писал его на шестом десятке лет для своих взрослых и подраставших потомков по проверенным памятью и дополненным заметкам, которые он начал вести впервые в 1757 году, отправляясь в первый прусский поход. Для произведения поздних лет записки, в общем, правдивы, довольно искренни; но, частью в силу личных свойств автора, отчасти потому, что написаны с целью назидания, поучения юношества, они одноцветны, монотонны; автор явно старается не касаться темных сторон личной и общественной жизни, избегает всего малоназидательного, непригодных примеров. Это свойство сильно усложняет полную критическую разработку памятника; односторонние отзывы и характеристики автора требуют дополнений, дорисовки, и разбор одного источника грозит обратиться в полную историю русского общества XVIII века.
Старые поколения
В XV и XIV веках северные части нынешних Тульской и Калужской и юг Московской губернии составляли еще южную окраину государства: на ее землях отражались набеги крымцев, грозных врагов народного благополучия; все города этой украйны строились, соображаясь с дорогами, по которым крымцы приходили разорять Русь, и все входили в линии укреплений. Главной заботой летучих конных отрядов татар при выборе дорог на Москву было по возможности избегать переходов через реки; поэтому их главные пути на большей части своего протяжения представляли как бы водоразделы речных бассейнов. Решаясь по необходимости на переправы, они очень осторожно выбирали броды через реки и раз навсегда запоминали их. Все же броды, дороги и тропы, шляхи и сакмы, по-татарски, давно изучили и знали русские; их караулили, загораживали рвами, засеками. Главная дорога татар – так называемый муравский шлях – проходила по возвышенности между речками окского и донского бассейна и с дальнего юга, от Крымской Перекопи, вела к самой Туле. Далее, за Тулой, ожидали неизбежные переправы через Упу близ Дедилова, затем через Оку; близ Каширы находился едва ли не самый удобный брод, слывший Сенкиным. Все это надолго определило важное значение Тулы и соседних с нею городов: Каширы, Алексина, Дедилова, Крапивны. Многие годы туляки и каширцы жили в постоянной тревоге и ожидании набегов со степей.