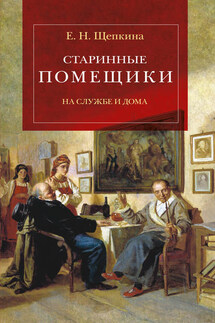Старинные помещики на службе и дома. Из семейной хроники Андрея Тимофеевича Болотова (1578–1762) - страница 9
Таким образом, члены нашего рода являются типичными представителями старинного сословия боярских детей. Судьбы этого сословия были довольно разнообразны и вполне зависели от экономического положения и служебных окладов. Лучшие богатейшие боярские дети выслуживались в придворные чины, попадали в списки московских дворян, жильцов и так далее. Низший слой, постепенно беднея, спускался до окладов в 30–15 четей. (20 десятин до 50), то есть таких, какие получали станичные и городовые казаки из вольных людей, защищавшие на украйне и на степных сторожах татарские переходы и переправы. Такие боярские дети скоро исчезали из списка помещиков и терялись в толпе вольных людей, казаков и однодворцев. В XIII веке из них вербовали первых солдат драгун и рейтар, которых отдавали на выучку иностранным офицерам.
Василий Романов, перебравшись в Тешиловский стан>10, занял довольно удобные для хозяйства земли по маленькой речке Дороховке близ более значительной Скниги, притока Оки; он имел 67 четей в поле (около 100 десятин) с 10 десятинами леса и хорошими покосами. Обилие речек делало это место весьма соблазнительным для помещика. Дороховка лет через 200 после первого Болотова>11 в жаркое летнее время имела не менее двух саженей ширины, а Скнига не бывала уже шести саженей и изобиловала рыбой; кроме того, тут же пробегали речки Щиголевка, Гвоздевка, Язвейва и меньшие ручьи. Отсюда Болотовы начали понемногу распространять свои владения в округе; но пока, в последние годы царствования Грозного, у Василия Романова в его Трухине имелась только собственная усадьба да три пустых крестьянских двора.
Писцовая книга застала каширское население в том бедственном состоянии, в какое привели его нашествия Девлет-Гирея 1571 и 1572 годов, когда выжжена была вся Москва и погибло от крымцев в общем до миллиона народу. Да и вне таких погромов сельское население с трудом удерживалось на землях мелких, бедных помещиков; крестьяне искали прежде всего поддержки и защиты у помещика, а на бедняков плоха была надежда. Круто приходилось мелкопоместным службы служить и семьи содержать на доходы со своих пустошей и крошечных деревенек.
Всякий юноша, дворянин или боярский сын, с 16 лет считался поспевшим в службу – новиком; если отец его не мог служить по болезни или старости, за ним записывали поместье отца или наделяли, если было несколько братьев, особым окладом земли. Обыкновенно поместье оказывалось меньше официального оклада, который прописывали дьяки разрядного приказа.
Служилый люд города с его уездом составлял особый полк под начальством своих голов и сотников. Свои выборные окладчики проверяли имущественное положение земляков; они знали, за кем сколько четей, кто в какую службу годен, может ли привести с собой своих кабальных людей или нет; с их слов дьяки писали, у кого поместье мало или пусто без крестьян. Сообразно с этими данными между людьми делили денежное жалованье перед походом и во время его, от 6-10 рублей до 25.
Все помещики уезда по таким спискам>12 делились на статьи, главным образом, на четыре: 1) выборные, лучшие дворяне, легко переходившие в более аристократичный московский список, в государев полк, в жильцы и прочее; 2) просто городовые дворяне; 3) дворовые и, наконец, 4) боярские дети украинных городов; на окладе до 30 четей они уже стояли почти наравне с городовыми казаками; это разряд Федьки Малыкина, Сеньки Первого и др. Все эти статьи составляли главную массу нашего старинного войска – поместную конницу.