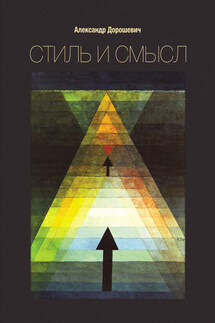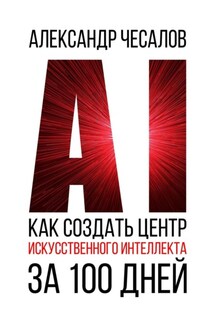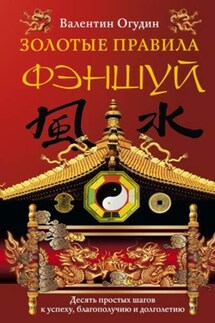Стиль и смысл. Кино, театр, литература - страница 20
Пришедшие на смену декадансу художественные течения начала XX века, отрекаясь как от главного греха буржуазности в искусстве – от субъективизма и как от его проявлений – от детерминизма и психологизма, во многом повторили романтический бунт против рационализма Просвещения. Независимыми от субъективного восприятия, вечно и изначально присущими жизни объявлялись идеальные в основе своей образования. Происходит своеобразный парадокс: то, что принадлежит субъективному опыту и является целиком продуктом сознания, своеобразно отчуждается от породившего его со знания и объявляется имманентной реальностью.
Художник-экспрессионист, например, стремится не к выражению собственного переживания своего объекта, но к тому, чтобы дать ему заговорить через себя. А такое стремление к устранению отдельно взятой эмпирической личности, вместо которой должен заговорить «голос бытия», есть не что иное, как не признающий своего происхождения антропоморфизм, рождавший мифы древности и аналогичным образом приводящий к своеобразно преломленному мифологизму, нередкому в современном искусстве.
Очищение, редукция, обращение к глубинным первоосновам, к сущностям характеризует содержание самых различных областей развития буржуазной мысли начала XX века. В целом это тот же романтизм, но уже нашедший достаточно научных аргументов для того, чтобы провозгласить субъективность принадлежащей реальности. Если попытаться в двух словах сформулировать основные принципы каждой системы, то можно увидеть, как всюду в основе лежит противопоставление неизменного и поэтому сущностного ядра подверженной изменению под влиянием среды и поэтому неистинной оболочке. В феноменологии Э. Гуссерля с помощью «эйдетической редукции», то есть вынесения за скобки конкретного содержания сознания, ищется сущность сознания, его «смысл». В аксиологии М. Шелера отделяемые от их носителей духовные ценности существуют независимо от субъекта, будучи даны ему в созерцании, в интуиции, как эмоционально окрашенные «факты». Метафизика Н. Гартмана возрождает мир платоновских идей и средневековых «универсалий». В «фундаментальной онтологии» М. Хайдеггера содержанием жизни, «экзистенцией» оказываются независящие от эмпирического опыта, взятые до него (в результате гуссерлианской редукции) ощущения «страха», «заботы», «ввергнутости» в мир, «бытия-к-смерти» (их переживание становится главным мотивом в литературе, посвященной «уделу человека», – у Кафки, Беккета, в «театре абсурда» и др.). В философии К. Ясперса от поверхностного, повседневного, «неистинного» существования освобождает «экзистенциальное озарение», переживание «предельной ситуации». В психоанализе З. Фрейда неизменным и непреходящим оказывается бессознательное «Id» («оно»), противопоставленное обусловленному средой «Ego» («я»), а влияние его на человека проявляется в механизме извечно зафиксированных эротических комплексов. Отрывая эти комплексы от индивида и объявляя их принадлежностью «коллективного бес сознательного», К. Юнг называет их «архетипами» (то есть «первообразами»), хранящимися в памяти рас и поколений в виде мифов и сказаний.
Все эти разнообразные и в то же время очень похожие друг на друга по методологии направления делали объективной истиной непосредственно (или через символы) созерцаемые феномены сознания, повторяя тем самым механизм мифообразования. «А мифическое знание, – говорил Томас Манн в речи по случаю юбилея Фрейда, – покоится в созерцателе, а не в том, что он созерцает»