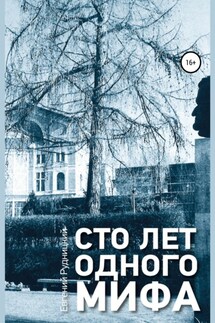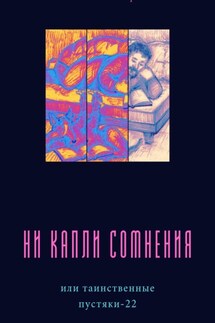Сто лет одного мифа - страница 25
В то время в Париже шумным успехом пользовалась новая (поставленная в апреле 1849 года) опера Мейербера Пророк. В свой предыдущий приезд Вагнер не смог посетить эту постановку, поскольку попал в межсезонье, однако на этот раз он не упустил представившуюся возможность и в марте, то есть почти через год после премьеры, побывал на спектакле, который поразил его до глубины души. Впоследствии он писал в Моей жизни о «пошлых руладах» в колоратурной арии матери главного персонажа (к слову сказать, эту партию Мейербер создавал, имея в виду Полину Виардо), которые настолько вывели его из себя, что он сбежал, не дождавшись конца представления. Возмущение передового немецкого композитора типичными для итальянского бельканто элементами вполне можно понять, но в письме к дрезденскому другу Улигу, написанном 13 марта, то есть вскоре после посещения постановки, он о своем возмущении ничего не сообщил. Как раз наоборот: «…я увидел в первый раз и пророка – пророка нового мира, я почувствовал себя счастливым и возвышенным, отказался от всех подстрекательских планов, которые показались мне теперь такими безбожными, ибо все чистое, благородное и истинное, все божественно человеческое полнокровно живет в блаженном настоящем… Когда приходит гений и предлагает нам иные пути, за ним с восторгом следуют даже те из нас, кто не чувствует себя способным чего-то добиться на этом пути». Очевидно, автором Моей жизни руководило не столько неприятие чуждой ему оперной эстетики, от которой он сам уходил все дальше, сколько зависть к успеху оформленной с небывалой роскошью постановки. Особенно сильное впечатление производила вдохновленная голландской живописью XVI века зимняя сцена в лагере повстанцев, с балетом и катанием на коньках (на сцене, разумеется, роликовых), а также созданный с помощью бывших в то время в новинку дуговых ламп с регулируемой яркостью эффект восходящего солнца, осветившего городские стены и укрепления, которые предстояло штурмовать бунтовщикам под руководством главного персонажа, анабаптиста Иоанна Лейденского. Кроме того, Вагнеру было известно об огромных доходах, которые эта постановка принесла и без того не бедствовавшему Мейерберу. Но, как следует из того же письма Улигу, самое главное заключалось в другом: на примере лжегероя из оперы соперника он убедился, насколько губительны были его собственные революционные заблуждения. В качестве антигероя он увидел самого себя. Поэтому герой-разрушитель его будущей музыкальной драмы Зигфрид должен был бороться не с установленным общественным порядком, а со злыми силами, разрушавшими общество изнутри. Теоретическим обоснованием этой идеи стала работа Еврейство в музыке.
Однако перед тем, как приступить к созданию этого трактата, Вагнеру пришлось пережить в Париже еще одно приключение. Вскоре после представления Пророка, столь радикально изменившего его мироощущение, он получил приглашение из Бордо от жившей там с матерью и молодым мужем, виноторговцем Эженом Лоссо, дрезденской знакомой Джесси, урожденной Тейлор. Ее брак был явно поспешным и, как следствие, неудачным. Молодая любительница поэзии и музыки, сама прекрасно игравшая на фортепиано (особенно сильное впечатление произвело на Вагнера ее исполнение монументальной сонаты Бетховена Hammerklavier), пригласила романтического изгнанника посетить их семейство. Композитор, не торопившийся возвращаться в Цюрих, где его ждали одни семейные неурядицы, нанес им визит в начале марта. Супруги Лоссо и Энн Тейлор жили на наследство, полученное матерью. Еще до их свадьбы Энн спасла предприятие Эжена от разорения, и это дало повод некоторым биографам Вагнера предположить, что она была любовницей жениха своей дочери. В семье царила необычная разобщенность, которая не укрылась от композитора во время его посещения Бордо. Молодой супруг часто бывал в деловых поездках, а глуховатая теща неохотно принимала участие в беседах ее дочери с гостем об искусстве. Восхитившаяся за пять лет до того