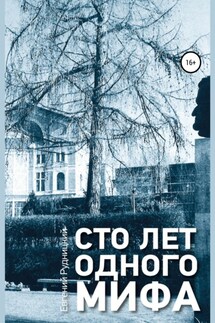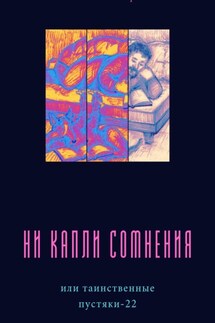Сто лет одного мифа - страница 34
13 октября в Цюрих прибыл Лист, чей визит резко изменил на ближайшие недели жизнь не только Вагнера и его окружения, но и всего Цюриха. Вслед за ним прибыла княгиня Сайн-Витгенштейн с дочерью, и поселившаяся в отеле «Баур-о-Лак» троица сосредоточила на себе внимание интеллектуальной элиты города. В Моей жизни Вагнер писал: «Везде происходили приемы, устраивались обеды, ужины. Откуда-то появилось много интересных людей, о существовании которых мы и не подозревали». Порой о Вагнере вообще забывали, и это доставляло ему неимоверные страдания: все внимание общества переключалось на пианиста-виртуоза и его экстравагантную подругу, рассуждавшую на всевозможные темы и наполнявшую салон гостиницы дымом своих сигар. Во время устроенного ею кульминационного мероприятия – 22 октября праздновалось сорокапятилетие Листа – Вагнер не выдержал и, чтобы обратить на себя внимание, выступил с необычайно взволнованной речью. Зато ему доставил огромное удовольствие состоявшийся за несколько дней до того визит гостей в его куда более скромное жилище: княгиня суетилась вместе с Минной по хозяйству, а Лист и прочие гости слушали его чтение отрывков из недавно начатых либретто Тристана и Изольды и Победителей. В то время еще было не совсем ясно, к какому из «шопенгауэровских» сюжетов склоняется его интерес. С уверенностью можно только сказать, что оба они отвлекли на некоторое время Вагнера от занимавшего уже на протяжении нескольких лет мифа о преследуемом гении. К концу шестинедельного визита Листа он и Вагнер дали в Санкт-Галлене симфонический концерт: гость дирижировал своими симфоническими поэмами Прелюды и Орфей, а принимавший его изгнанник – Героической симфонией Бетховена. С местным оркестром взыскательному Вагнеру пришлось, разумеется, помучиться, но в целом гости остались довольны: вылазка на природу, включавшая, помимо концерта, прогулки и застолья, превратилась в двухдневный фестиваль. Через три дня Вагнеры проводили гостей до Роршаха, где те сели на пароход, переправивший их на баварский берег Боденского озера.
В начале 1857 года жизнь Вагнера шла своим чередом. В автобиографии он пишет, что успешно трудился над партитурой Зигфрида, «имея перед глазами простой набросок карандашом». Одновременно он продолжал курс водолечения, надеясь, что к весне его наконец перестанут мучить рожистые воспаления. Что его в самом деле мучило и мешало работе, так это стук молотка жившего неподалеку жестянщика. Единственная польза от этого соседства – зазвучавший в Зигфриде заполошный стук молота нибелунга Миме, тщетно пытавшегося соединить (методом, именуемым ныне диффузионной сваркой) обломки разрушенного Вотаном меча Нотунг. При этом дальнейшее развитие получил антисемитский миф Вагнера, нашедший теперь свое выражение в образе Миме как главного антипода Зигфрида. В либретто Вагнер не пожалел для его описания черных красок. В соответствии с авторскими ремарками карлик был показан как «кузнец-образина», «позорный халтурщик», «жалкий коротышка», «старый, нелепый урод», занимающийся «чепухой». Автор также именует его «мерзким простофилей», «бугристым и серым, маленьким и кособоким, горбатым и хромым, с висячими ушами и глубоко сидящими глазами». Все это можно было бы рассматривать как обычные описания скверного сказочного персонажа, если бы не характеристика его пения, которое в соответствии с авторскими указаниями должно быть «пронзительным», «визгливым», порой даже «пронзительно жалобным». Невольно приходит на память то, что писал автор