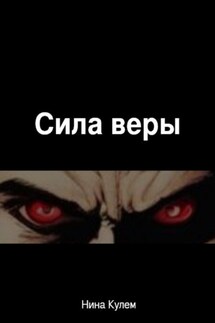Сто лет СССР: современная историография - страница 2
Историки Ф. Ашшенфельд (Принстонский университет, США) и М. Трекер (Институт истории и культуры Восточной Европы, Лейпциг, Германия) анализируют взаимосвязь между войной и экономическим планированием, рассматривая интеллектуальную историю экономического планирования во время и после Первой мировой войны. В центре внимания авторов – вопрос о влиянии мобилизации экономики в 1914–1918 гг. на развитие социалистической мысли в целом и, в частности, на развитие советской экономики. Прослеживая историю военного планирования в Германии и России, авторы предлагают новую интерпретацию роли немецкой военной экономики в политике большевиков.
Ашшенфельд и Трекер сосредоточили внимание на сравнении дебатов о планировании среди российских левых и дебатов о планировании в Германии военного времени. В Германии экономическое планирование рассматривалось промышленниками, такими как В. Ратенау, а также военными деятелями, такими как генерал Э. Людендорф, «не просто как необходимое зло в военное время, но и как способ оживить немецкое общество после войны» (с. 2). За этими дискуссиями следили в России, в том числе экономист Ю. Ларин (Михаил Лурье, 1882–1932), который после революции стал «одним из самых радикальных сторонников планирования». Авторы отмечают, что до прихода к власти большевики в основном обращали внимание на динамику капитализма на периферии и не заглядывали далеко вперед в прогнозах о форме и организации социалистической экономики. Но в ходе Первой мировой войны «российские левые интеллектуалы начали видеть следы социализма в мерах, принятых воюющими державами, особенно в военной экономике Германии» (с. 2). Особое внимание авторы уделили влиянию работ Р. Гильфердинга (1877–1941), подробно рассмотревшего процесс картелизации промышленности во второй половине XIX – начале ХХ в. По мысли Гильфердинга, процесс картелизации и концентрации власти в руках финансового капитала в конечном счете должен был привести к возникновению общего картеля (Generalkartell), который планировал бы все экономические отношения в данном обществе. Экономические процессы в Европе этому лишь способствовали. Фактическая отмена свободной конкуренции в 1870-е годы потребовала от буржуазии бо́льшего взаимодействия с государством. Поскольку контролируемую конкуренцию было легче осуществлять в границах одного политического образования, картели, как правило, развивались по национальному признаку, стремясь расширить сферу своего влияния за пределы национальных границ, чтобы увеличить прибыль. Этот механизм, утверждал Гильфердинг, мог бы объяснить геополитическую напряженность начала ХХ в.: несколько национальных картелей боролись за мировые рынки, имея ограниченные ресурсы и территории, и стремились их расширить, используя военную мощь государства (с. 8).
Среди большевиков интерпретация войны как апогея картелизации была впервые предложена Н. И. Бухариным, он в книге «Империализм и мировая экономика» (1915) утверждал, что начало мировой войны привело к появлению нескольких «национальных марксизмов» и борьбе между различными регионами. Он «пошел дальше Гильфердинга, утверждая, что преобразование национальной экономики в один гигантский трест – процесс, начавшийся в Германии в 1870-х годах, – представляет собой важную предпосылку социализма» (с. 8). Первая мировая война рассматривалась как конфликт между государственно-капиталистическими картелями, контролируемыми правящими классами, которые стремились насильственно продвигать свои интересы на мировом рынке.