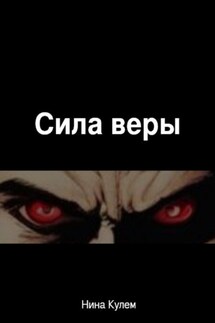Сто лет СССР: современная историография - страница 3
Для Ленина, Бухарина и Ларина картелизация военного времени («государственный капитализм») представлялась лишь промежуточным шагом в неизбежном развитии общества к социализму. Ларин до 1917 г. также часто ссылался на работы Гильфердинга, анализируя военную экономику Германии. Он отмечал, что банки, участвуя в финансировании войны, были вынуждены сокращать конкуренцию, что в свою очередь приводило к созданию отраслевых монополий. Таким образом, война должна была укротить «хаотические» процессы рынка путем картелизации, породив более рациональный экономический порядок. В 1915 г. Ларин писал на страницах «Вестника Европы», что «сегодня Германия представляет собой самую интересную социальную лабораторию человечества» (цит. по: с. 10). В октябре 1917 г., когда он стал одним из главных советников Ленина по экономическим вопросам, именно это ви́дение военной экономики послужило основой для первых шагов к экономическому планированию и тотальной национализации.
На Ленина, «по-видимому, произвела особое впечатление военная экономика Германии, которая служила свидетельством мощи централизованного планирования и расширенного влияния государства. Однако, учитывая, что Ленин сделал очень мало зафиксированных замечаний о военной экономике Германии, ее влияние на него не следует преувеличивать» (с. 10). Большевистское экономическое планирование было не просто попыткой подражать немецкой модели. Скорее, утверждают авторы, здесь есть «избирательное сходство с другой высокоцентрализованной и принудительной моделью экономического управления». Можно выделить лишь набор «этатистских и нелиберальных убеждений, разделяемых немецкими военными планировщиками и экономистами в большевистской России» (с. 3). Влияние немецкой политики военного времени на конкретную политику большевиков трудно проследить, особенно с учетом того, что немецкая военная экономика «не разделяла сильного акцента большевиков на национализацию и конфискацию» (с. 10).
На более глубоком уровне внимание большевиков к немецкой военной экономике указывает на «набор общих ценностей и черт сходства, которые, как это ни парадоксально, разделяли российский революционный режим и немецкие реакционные правые». Стремление большевиков к неограниченной исполнительной власти «отражало стремление Людендорфа подчинить всю экономическую деятельность военному командованию для целей тотальной войны» (с. 11). Таким образом, военная экономика Германии привлекала большевиков как модель хорошо организованной «буржуазной диктатуры», пример силы принуждения. Именно по этой причине к концу 1920-х годов многие видные представители немецкой правой интеллигенции, «отвергая большевизм, были очарованы экономической организацией Советского Союза». Такое «избирательное восхищение, несмотря на идеологический разрыв, уходит корнями в Первую мировую войну» (с. 11).
В целом, заключают Ашшенфельд и Трекер, во время Первой мировой войны все воюющие державы были вынуждены так или иначе усилить вмешательство государства в экономику. Такое развитие событий «вдохновило интеллектуалов, как левых, так и правых, на продолжение политизации экономической жизни в стремлении к более справедливому порядку после войны». В наиболее экстремальной (большевистской) форме это повлекло за собой «тотальное планирование», отражавшее мечту об интеграции всех социальных сил в государстве и достижении полного контроля над экономической жизнью. Таков был утопический идеал, стоявший за военным коммунизмом и «командно-административной системой», построенной в СССР при Сталине. Но существовали и другие, более умеренные взгляды на послевоенное экономическое планирование, которые «основывались на расширении сотрудничества между бизнесом и государством». Эта «смешанная экономика» была, по сути, тем, что предложил Ратенау, и «в какой-то степени нашла выражение в ленинском нэпе и ранней фазе Октябрьской революции. Фактически многие страны Запада приняли аналогичные меры планирования после Великой депрессии» (с. 15).