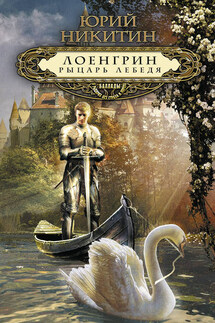Стоунхендж - страница 48
Томас сидел весь зеленый, даже покрылся пятнами, похожими на трупные. Буравил калику ненавидящим взором. Яра прижала ладонь ко рту и пропала за кустами. Калика гнусно улыбался:
– Ну, будешь есть змею?
От жареных ломтиков вкусно пахло. Во рту Томаса скопилась слюна. Он шумно сглотнул, сказал хрипло:
– В поле и жук – мясо. Буду. Но если ты действительно маг, а я видел тебя в деле, мог бы спереть кабанчика с чужого стола.
Олег сказал с нерешительностью:
– На пользование магией все больше запретов… Нет, не боги, не демоны – мы сами. Томас, страшная правда в том, что и боги, и демоны – мы сами! Ладно, это для тебя пока слишком сложно. Надо утверждать более простые истины: честь, справедливость, не укради, не убивай… Словом, если вернемся к магии, то мало того, что, если простой человек будет знать о магии, он сложит ручки и будет ждать с неба манны небесной! Он с радостью становится рабом, только бы кормили и чесали. А он будет есть и хрюкать… И придет конец роду человеческому, как пришел конец богам… Тем тоже доставалось все очень легко.
Томас подумал, спросил нерешительно:
– Ладно, верю, хоть и не понимаю… Но для себя? Себя лично? Если никто знать не будет, то другим и не повредит? Хотя бы по мелочи. Кабанчика спереть со стола султана, гуся с яблоками – от шаха…
Олег развел руками, лицо было несчастным.
– Есть такое слово, Томас…
– Какое?
– Безнравственно…
Долго ели молча. Наконец Томас просветлел лицом, сказал с подъемом:
– Без… безндра… дравственно, это что-то вроде бесчестно, да?
– Ну…
– Тогда это соотносится с рыцарским кодексом. Все равно что напасть в полном вооружении на невооруженного. Или нанести удар упавшему рыцарю.
Бабье лето, объяснил Олег рыцарю, – неожиданное тепло. Они шли по залитому солнцем миру под безоблачным небом. Солнце роняло тяжелые накаленные стрелы. От земли поднимался плотный жар, воздух был горячий, но не мертвый, как в начале лета, а настоянный на запахах трав, пахучий.
Томас вдыхал ароматы всей грудью. Скоро войдет в сырой и туманный мир своей самой лучшей на свете страны, сплошь покрытой лесами и болотами. Об этом варварском великолепии будет только рассказывать…
Яра передвигалась неслышно, и Томас вздрагивал всякий раз, когда стройная фигура варварки возникала рядом. Не потому, что уже забыл о ней, наоборот, думал чересчур часто, но воображение почему-то заносило либо на башню Давида, где он ломит и крушит вражью силу, а она смотрит с надеждой из-за решетки, либо на стену Иерусалима, где ее, связанную по рукам и ногам, спешно утаскивают сарацины – ишь, в гарем удумали! – а он, ориентируясь на ее жалобные крики, догоняет и рубит, как сорняки…
Но когда она возникала рядом, гордая и независимая, он чувствовал раздражение. Женщина должна сидеть и ждать своей участи, как овца. Правда, сэр калика говорит, что новая вера превращает всех в овец, даже так и называет людей агнцами, но это он чересчур… Если он, сэр Томас, овца, то почему от него бежали львоподобные сарацины?
Он покосился на нее украдкой. Яра тут же поймала его взгляд, нахмурилась.
Раздражение Томаса достигло верхнего края котла. Как будто бы он ей осточертел или постоянно пристает! Да иди хоть к черту! Угораздило же их спасти ее от половцев… А теперь страдай, ибо раньше с каликой все было просто по-мужски, никаких секретов, а ныне даже по нужде надо искать уединенные места, а когда возвращается, она то ехидно спрашивает, где же цветы, которые так долго собирал, то осведомляется участливо, не проглотил ли за прошлым ужином веревку…