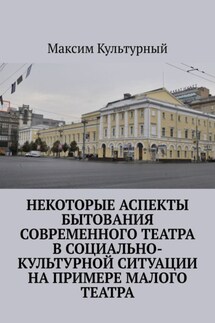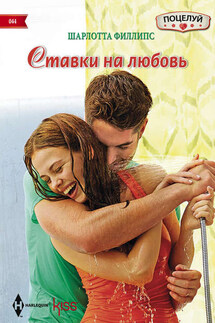Структурно-функциональный анализ деятельности современных репертуарных и коммерческих театров - страница 7
В программах крупнейших международных театральных фестивалей обширно представлены проекты, которые 20—30 лет назад никто бы не поместил в директорию театра. Появляется множество важных для истории фигур вроде Уильяма Кентриджа, выдающегося художника, создающего кинетические арт-объекты, и философа, который с некоторых пор ставит спектакли – некое личное высказывание о жизни, очень причудливо сочиненное. То же можно сказать и о Ромео Кастеллуччи, художнике по образованию, который в 2003 году был директором театральной секции Венецианской биеннале и ассоциированным артистом Авиньонского фестиваля в 2008-м. Таких примеров много, поэтому попытки присвоить художникам какие-то дефиниции (режиссер, хореограф) становятся все более бессмысленными. Таким образом, современный театр может быть каким угодно.
Минус-приемы
При том, что театр захватывает смежные территории и вбирает в себя все, можно наблюдать и минус-приемы, которые оказываются чрезвычайно эффективными и очень выразительными. К примеру, спектакль хореографа Саши Вальц на Авиньонском фестивале был сыгран в большом ангаре. Когда открылись двери в этот ангар, зрители поняли, что мест, собственно, нет: нет никакого зрительного зала или трибун, куда нужно сесть. То есть непонятно, где в этом огромном пространстве главное место, центр, вокруг которого нужно встать, занять, так сказать, первый ряд. Ангар застроен двух-трех ярусными конструкциями, объединенными в некие отсеки, в каждом из которых происходит свой мини-спектакль, и невозможно сказать, какой из них является главным, а какой – второстепенным. Зритель решает это сам. Блуждая по ярусам, где разыгрываются пластические этюды или разговорные сцены, все смотрят свой личный спектакль. Иногда действо разворачивается прямо на полу между этими конструкциями, зрители смешиваются с актерами, становится непонятно, где кто. При этом там нет никакого интерактива, как это делал, к примеру, в спектакле «Paradise now» американский The Living Theatre, который намеренно вовлекал аудиторию в действие. Таким образом, граница, даже условная, между сценическим и зрительским пространствами, оказывается абсолютно размытой [14].
Практически хрестоматийным можно считать следующий минус-прием – спектакль, где не оказывается артистов вовсе, не говоря о профессиональных актерах, отсутствие которых – отдельный тренд в современном театре. К примеру, действие спектакля режиссера Хайнера Геббельса «Вещь Штифтера» напоминает некое сотворение Вселенной, рождение мира, в котором еще нет человека. Выясняется, что за какую несущую конструкцию в театре не возьмись, без нее можно обойтись или заменить ее какой-то другой. Этим современный театр постоянно бросает зрителю вызовы, с которыми консервативному человеческому сознанию приходится как-то совладать.
Открытость мышления и работа со смыслами
Бельгия, которая еще в 80 годы ХХ века была театральной провинцией, стала форпостом современного европейского театра с огромным количеством новых идей. До недавнего времени можно было говорить, что самой сильной, интересной с точки зрения театральной жизни может стать страна, у которой есть традиции, шлейф театральной истории, почва, соответствующие институции. И если ничего этого нет, театр будет соответствующий. Но в данном случае можно видеть, как страна, в которой ничего еще недавно не было, становится центром театральной жизни, неким авангардом мысли с новыми именами, среди которых Люк Персеваль, Ян Лаурс, Ян Фабр, Анна Тереза Де Керсмакер.