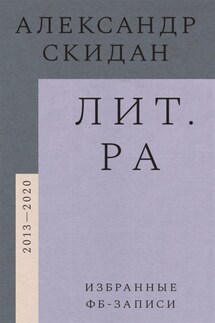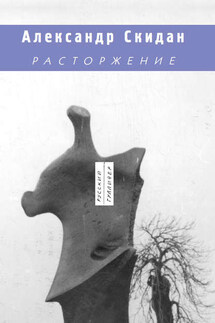Сумма поэтики (сборник) - страница 14
Синтаксис Кривулина и Стратановского (заключим для удобства в скобки очевидные стилистические различия этих поэтов) остается удобочитаемым, конвенциональным; при всех ритмических сдвигах и нарушениях, они нигде до конца не отказываются от регулярного стиха и привычной строфики, крайне редко – от рифмы; теологическая вертикаль образует строгий отвес к любым формальным отклонениям; столкновение, о котором идет речь, перенесено у них, скорее, в область семантики, языка, разъедающего, подтачивающего высказывание изнутри. К тому же ни тот ни другой не покидают локус русской/советской словесности, привилегированное для обоих поле референций – это Серебряный век и последовавшая за ним катастрофа. Их поэзия относится к поэзии Завьялова как фигуративная живопись к нефигуративной, абстрактной.
Айги, безусловно, ближе Завьялову – и своим «примитивизмом», идущим от песенной, фольклорной традиции, и «бедной» образностью, и отказом от регулярной метрики, рифмы, пунктуации, и своей принадлежностью к «малой народности» (Айги – чувашский поэт, пишущий по-русски, Завьялов – мордвин), и ориентацией на современный западный авангард, в том числе музыкальный. Но поэзия Айги существует в совершенно ином эмоциональном регистре; гуманистические, христианские ценности никогда не ставятся в ней под вопрос; в отличие от Завьялова, Айги не превращает двуязычие и миноритарность в творческий принцип, в стратегию, не стремится к созданию этнопоэтики (см. цикл «Мокшэрзянь кирьговонь грамматат», где русский язык выступает как язык-завоеватель, язык-насильник), не занимается археологией поэтических форм, от греческого треноса до «переводов» русской классики. Наконец, этой поэзии неведома предельная раздробленность, «распыленность» речи, та фрагментарность, что конституирует работу Завьялова.
«Поэт заставляет сызнова почувствовать связь между ужасом и словом. Он всегда древняя Пифия, которая передает собственную чудовищность всему произносимому, страшилище, давящееся несбыточным голосом, неспособное выговорить ничего и тем самым дающее сказаться тому, что раньше всякого слова, тому предстоящему, которое будит и опустошает речь, так что ей только и остается смириться с ним, чтобы его хоть как-то унять, укротить силой ритма. Но ритм, никогда не порывающий с прежним необузданным истоком, снова и снова воспроизводит его в самом скандировании так, чтобы лишить сказанное даже возможности, даже тени какого бы то ни было окончательного смысла»[24].