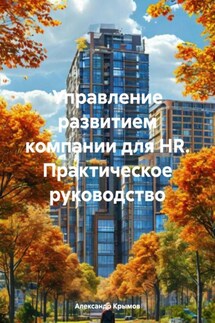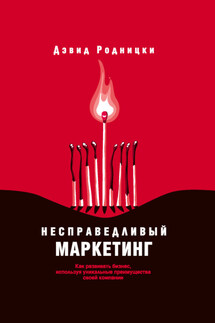Суперпозиция индустрии моды России - страница 9
Челноки на практике освоили несложные правила: вещь с высоким воротом не продаётся (из-за скверной экологии в постсоветском пространстве были очень распространены болезни щитовидной железы), с треугольным вырезом – тоже (самый распространенный в России типаж – женщина с крупными чертами лица и невысокой полной шеей), платья без рукавов – туда же (традиционные комплексы по поводу полных рук). Соотечественницы упрямо носили «чёрненькое, серенькое, бордовенькое», скрашивая эту унылую картину безудержной россыпью стразов по праздникам. Праздников было немало: они давали женщинам возможность вырваться из серой обыденности, только в праздники дозволялось выделиться, нарядившись в убийственное яркое платье. 8 марта, 1 сентября (нужно подать себя в выгодном свете на новой работе или в вузе), Новый год (посиделки, прообраз будущих корпоративов), свадьба (торжество белоснежных платьев-тортов и откровенных красно-чёрных нарядов подружек невесты). По прошествии десятка лет в Стамбуле турецкие производители женской одежды плакались мне: «Ваши женщины перестали носить нашу красивую одежду, от заказов на сотни тысяч леопардовых платьев с позолотой и кружевами мы опустились к заказам на десятки единиц!»
В те времена на перроне столичного метро можно было увидеть одновременно нескольких женщин в немыслимо ярких костюмах марки Tom Klaim в крупный горох. Бренд, основанный человеком, разбогатевшим на ритуальных услугах, оказался едва ли не единственной российской маркой, которая учитывала фигуры соотечественниц и их желание выглядеть молодо и сексуально наперекор климату. Марка была настолько популярна, что когда в ГУМе официально открывался бутик Calvin Klein, журналисты автоматически шли в бутик Tom Klaim.
Доморощенные маркетинговые исследования челноков были основаны на собственных пристрастиях, знании менталитета соотечественников, здравом смысле и высокой цене риска: не угадаешь спрос – разоришься. Выстраданные знания по заказу товара эволюционировали в то, что мы сегодня красиво называем «ассортиментной матрицей коммерческой коллекции». Самые удачливые челноки из первой волны перешли от перепродажи товара к размещению заказов на основе собственного дизайна, а устав от бесконечных приключений на китайских фабриках, стали основывать собственные швейные и трикотажные предприятия. На них ставилось восстановленное подержанное оборудование, закупались самые дешёвые материалы и нанималась самая дешёвая рабочая сила из регионов и сопредельных республик. На отечественных фабриках в ту пору можно было обнаружить потайные ночлежки и примитивные бытовые условия для швей, приезжавших семьями и трудившихся вахтовым методом: две недели безостановочно пашем безостановочно – две недели отдыхаем. Зарождающийся капитализм стоял на рабских условиях труда. Появившись в 90-е, индустрия переболела всеми неизбежными болезнями роста. Нас накрыла волна взаимных долгов и неплатежей. Это было время обаятельных авантюристов – сколько дизайнеров, фабрик, поставщиков материалов и оборудования могли бы согласиться с поразившей меня когда-то ремаркой одного из серьёзнейших деятелей мирового рынка моды: «Вот смотрю я на него и понимаю – сейчас я вдогонку уже потерянным миллионам потеряю ещё, но не могу устоять перед его обаянием!».
Пробуждение индустрии
В конкуренции с китайским масс-маркетом зародились российские бренды с коллекциями, разработанными и произведёнными по следующему принципу: привозим из Парижа или Милана чемодан платьев и делаем то же самое, но за три копейки. Большинство рождённых тогда брендов, когда-то потрясавших воображение, растворились в ходе общественных и экономических трансформаций и отошли на задний план, но они составляют историю моды страны. В подземных переходах «от Москвы до самых до окраин» стояли ларьки марки «Панинтер» – женщины страны одевались в достойную и недорогую одежду, созданную дизайнером Владимиром Зубцом. Впоследствии «Панинтер» – первая подлинная отечественная модная империя с собственными производствами и дизайн-бюро – развалится после смерти её основателя, харизматичного Александра Паникина. У Султанны Французовой, Людмилы Мезенцевой, Алексея Грекова и других постсоветских промышленных дизайнеров были первоклассные именные марки с авантюрным духом и гигантским потенциалом, завязанные на личность дизайнера: к сожалению, они не пережили экономики переходного периода. Герои и события первых десятилетий российской моды ждут своих биографов и исследователей, и вот уже историк моды Мэган Виртанен выпускает книгу «Советская мода».