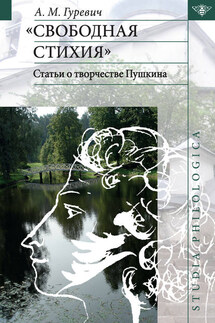«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - страница 33
Образ Карагеоргия целиком построен на романтически резких контрастах и противоречиях. Это борец за свободу, нежно любящий отец и жестокий убийца, «преступник и герой»:
Главное же – Карагеоргий – это яркая, могучая, поистине титаническая личность, возвышающаяся над обыкновенными людьми. Это подлинно романтический герой-избранник, не вмещающийся в рамки обыденного, повседневного – человек, к которому общепринятые житейские и нравственные нормы попросту неприложимы.
Воображение поэта волнует и другая историческая личность – великая, загадочная фигура Наполеона. Его моральный облик в изображении Пушкина столь же сложен и противоречив, как противоречива его историческая роль – душителя революции и борца против реакционных монархических режимов (стихотворение «Наполеон», 1821). «Презревший человечество» тиран, «до упоенья» утоливший «жажду власти», Наполеон в то же время «великий человек», «изгнанник вселенной», завещавший миру «вечную свободу». И потому на его могиле «луч бессмертия горит».
С личностями гордыми, сильными, могучими связаны были освободительные надежды Пушкина. Если раньше, провозглашая незыблемость «законов мощных», поэт признавал преступным всякое посягательство на них как со стороны царя, так и со стороны народа (ода «Вольность», 1817), то теперь он выступает поборником революционных потрясений, ясно видя их насильственный, кровавый характер. Правда, в «Кинжале» насилие оправдано только в том случае, когда «дремлет меч закона». Но уже в послании декабристу В. Л. Давыдову, написанном в том же 1821 г., прямо говорится о радостном причащении «кровавой чаше». Для такого рода кровавой, беспощадной борьбы как нельзя лучше подходили мятежные, охлажденные, ожесточившиеся, жаждущие мести романтические герои.
Оказавшись на юге в предгрозовой политической атмосфере, сблизившись с наиболее радикальным крылом декабристского движения – деятелями возглавленного Пестелем Южного общества, поэт жадно следил за развитием восстания в соседней Греции (его дыхание явственно ощущалось в Кишиневе), за ходом революционных событий в Италии, Испании, Португалии. Он не сомневался, что революция разразится и в России, твердо верил в ее успех.
Тем болезненнее воспринял Пушкин известия о поражении революционно-освободительных движений, о торжестве – во всеевропейском масштабе – сил реакции:
(1823)
Поиски ответа на этот вопрос привели поэта к неутешительным выводам. Главную причину поражения революции он видит в нравственном ничтожестве массы, в привычке народов безропотно покоряться угнетению и тирании. Горечью, презрением, болью дышат заключительные строки его стихотворения «Свободы сеятель пустынный…» (1823), написанного в разгар пережитого поэтом духовного кризиса:
Политическое бессилие «мирных народов» оказывалось тем не менее реальной и страшной силой. Оно становилось тормозом, неодолимым препятствием на пути великих личностей. И постепенно Пушкин все более склоняется к мысли, что даже величайшие из людей, даже самые яркие, сильные индивидуумы не в состоянии изменить и перестроить мир. Жизнь человечества подчинена каким-то неизбежным законам, не считаться с которыми невозможно.