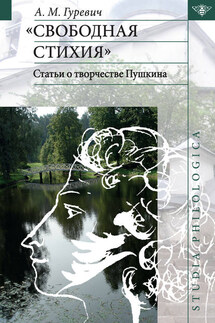«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - страница 34
Прощание с надеждами на революцию идет у него поэтому рука об руку с разочарованием в сильной личности, в вождях и героях освободительного движения, стремящихся порой к самоутверждению и власти, «в самой природе современной ему революционности», рождающей деспотизм и гнет вместо свободы и всеобщего счастья [14. С. 240]. Все строже оценивает поэт и нравственный облик героя-индивидуалиста. Если раньше он ставил его – в силу его «особости», исключительности – выше обычных моральных норм, то теперь он применяет к нему общепринятые нравственные критерии. Он подчеркивает теперь его эгоизм, его сосредоточенность на себе самом, его презрительно-высокомерное отношение к другим людям, его неспособность постичь богатство и красоту мира.
Достаточно вспомнить в связи с этим антинаполеоновский выпад во второй главе «Евгения Онегина» («Мы почитаем всех нулями, / А единицами – себя. / Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно…»); или критическое отношение к герою-индивидуалисту в «Цыганах»; или внутреннюю опустошенность и томительную скуку Фауста («Сцена из Фауста», 1825), чье сознание разъедено скепсисом и духом холодного анализа; или, наконец, «Подражания Корану» (1824), где поэт сталкивает в непримиримом конфликте сверхличный и индивидуалистический взгляд на мир, который – в соответствии с религиозной символикой произведения – выступает как конфликт веры и неверия. Индивидуалистический бунт развенчивается здесь в самих своих нравственно-мировоззренческих основах. Именно таков смысл четвертого подражания, где говорится о споре Бога с царем и о поражении последнего. Причем Пушкин смело вводит в характеристику царя резко оценочные эпитеты, придающие ему сходство с героем-индивидуалистом байроновского толка: «могучий», «безумной гордостью обильный», «похвальба порока». Особенно важно указание на «гордость» царя, ставшую для Пушкина одной из главных примет байроновского героя (ср., например, в «Цыганах»: «Оставь нас, гордый человек!..» или в «Онегине»: «Как Байрон, гордости поэт…»).
Пережитый поэтом духовный кризис имел двоякое значение для его творческой эволюции. С одной стороны, он привел к крушению просветительских иллюзий и тем самым стимулировал дальнейшее развитие пушкинского романтизма. Не случайно именно теперь в крупнейших созданиях Пушкина-лирика – таких, как «Песнь о вещем Олеге» (1822), «К морю», «Подражания Корану», «Андрей Шенье» (1825), – настойчиво утверждается мысль о таинственных, роковых путях, по которым движется жизнь, о ее высшем, провиденциальном смысле, о скрытых законах и силах, управляющих судьбами отдельных личностей, народов, всего человечества и внятных лишь немногим избранникам – мудрецам и пророкам, кудесникам и поэтам. Так возникает в пушкинской лирике романтический образ поэта-пророка, наделенного даром постигать глубинные тайны бытия:
(Пророк, 1826)
Переживание мира как тайны – вот что сближает Пушкина с романтиками!
С другой стороны, кризис 1823 г. с большой определенностью выявил, подчеркнул глубокое различие между пушкинской позицией и воззрениями романтиков, ускорив формирование в недрах пушкинского романтизма принципов «поэзии действительности». Двойственность эта особенно ясно сказывается в отношении Пушкина к романтическому индивидуализму байроновского образца. Его символом становится в пушкинской поэзии образ демона (стихотворение «Демон», 1823). Душе поэта близки ядовито-холодные «язвительные речи» демона, скептический, беспощадно трезвый взгляд на мир, презрение к иллюзиям и бесплодным мечтаниям. А в то же время для него несомненна и ущербность индивидуалистического сознания, отторгнутого от полноты бытия, ограниченность рассудочного, негативно-иронического отношения к миру, непререкаемым духовно-нравственным ценностям: