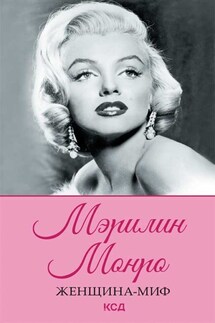Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы - страница 34
– Всегда ощущали себя свободным?
– Да даже при советской власти. У меня хватало воли делать то, что я считал нужным. Даже при том режиме.
– Вы чувствовали себя свободным, когда вас заставляли вносить поправки почти в каждый ваш спектакль?
– Это было грустно, но я давал себе слово, что вот столько-то исправлений еще могу допустить, потому что это не испортит мой замысел окончательно, а дальше – извините. Когда они заступали за черту, я говорил – закрывайте, спектакль не пойдет.
– И совсем не было страха, когда возражали?
– Азарт был. Я даже удовольствие получал, когда вот так дурака валял.
– Как вы ощущаете нынешнюю театральную ситуацию?
– Да никак. Как было все, так и осталось. Как я работал сорок лет в театре, так и работаю. Я человек консервативный. В других театрах кое-что вижу, но очень мало. Потому что все время репетирую. В начале сезона выпустил «Сократа», потом восстановил «Живаго» – только ради музыки Альфреда Гарриевича Шнитке. Спектакль посвящен его памяти. Я делал его с надеждой, что потом кто-нибудь еще заинтересуется этой музыкой, это уровень для меня. Сейчас репетирую «Фауста», хочу его сделать к концу сезона. Конечно, сокращенный вариант, потому что у нас никто 22 часа никакой текст слушать не будет. Даже Гёте в переводе Пастернака и с музыкой очень ценимого мною Владимира Мартынова. Люди уже очень привыкли к клиповому мышлению; та власть, которую взял теперь над ними телевизионный «ящик», заставляет не только меня, но и многих других режиссеров делать спектакли короче. Короче, но плотнее по смыслу. Хотя я никогда не любил длинных спектаклей. Не такая я цаца, чтобы зритель слушал меня три часа. Я уложусь и в полтора.
– Таганка старая и Таганка новая – есть между ними связь?
– Таганка – это авторский театр. Была и есть. И всякий театр, если он сильный, – авторский. Я только такой театр ценю. В другой – не верю. Сейчас модно говорить глупости, что режиссерский театр умер, теперь, мол, пришло время театра актерского. Это праздные разговоры. Господь с вами! Когда вы вспоминаете хороший фильм, шедевр, вы что прежде всего называете? Имя режиссера. Феллини, Бергман, Антониони, Эйзенштейн…
– Будучи поклонницей старой Таганки, Валерия Новодворская, кажется, в статье к 35-летию театра написала: «Весь таганский десяток взрывов Хиросимы пропал втуне, вся кошелка вольнодумных семян была выброшена на бесплодную почву». Неужели она права, и бунт Таганки 60-70-х годов был напрасен?
– В общем, права. Но нельзя же сводить Таганку только к политическому театру?! Это давнее заблуждение. Тогда, в 64-м, я не собирался делать революцию, мне просто надоела унылая картина соцреализма вокруг. Я сам был артистом и играл в таких формах, поэтому хотел их разрушить, когда почувствовал в себе задатки режиссера. У меня в театре главным было все целиком: как это сделано, в какой манере, в какой музыкальной, пластической структуре.
– Неужели для Таганки «про что» не было главнее?
– «Про что» определялось выбором репертуара. Лучшая проза, лучшая поэзия, которая была в России, самые лучшие писатели, с которыми я дружил: Трифонов, Абрамов, Можаев… И не задавайте мне вопрос, почему я не ставил пьес. Потому что не находил хорошей. Они фантазию мою не возбуждали… Так что неправильно сужать Таганку до политического театра. Не просто же так туда было не попасть в течение двадцати лет? За границей на встречах со зрителями ко мне подходили эмигранты и дарили билетики на старую Таганку. То есть, навсегда уезжая из страны, они забирали с собой наши афиши и билеты как самое дорогое. Такое не забывается. Когда умер Володя Высоцкий, на следующий день должен был идти «Гамлет». И ни один зритель не сдал билет! И когда нам закрыли «Павшие и живые», – а билеты были проданы на месяц вперед, – никто не сдал билет. Ходили на замену, по второму, по третьему разу смотрели «Доброго человека», «Антимиры», но не сдавали билеты. Они нас так поддерживали. Это получалась такая интеллигентная молчаливая забастовка против власти. И власти это чувствовали.