Священная Война - страница 4
Каково же традиционное отношение самой Церкви к мировоззрению непротивленчества? Обыкновенно апологеты христианского пацифизма в защиту своего учения приводят 13-е правило Свт. Василия Великого, которое гласит: «Убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия. Но может быть добро было бы советовати, чтобы они, как имеющие нечистыя руки, три года удерживалися от приобщения токмо Святых Таин».
Авторитетный византийский толкователь Иоанн Зонара, так комментирует это правило: «Не в виде обязательного предписания, а в виде совета предлагает святый, чтобы убивающие не войне в течении трех лет воздерживались от причащения. Впрочем, и этот совет представляется тяжким; ибо он может вести к тому, что воины никогда не будут причащаться божественных даров, и в особенности лучшие, – те, которые отличаются отвагою: ибо они никогда не будут иметь возможности в течение трех лет прожить в мире. Итак, если те, которые, ведут войны одну за другой и умерщвляют неприятеля, удаляются от причащения, то они во всю жизнь будут лишаемы благаго причащения, что для христианина – нестерпимое наказание. Но зачем считать имеющими нечистые руки тех, которые подвизаются за государство и за братьев, чтобы они не были захвачены неприятелями, или чтобы освободить тех, которые находятся в плену? Ибо если они будут боятся убивать варваров, чтобы через это не осквернить своих рук, то все погибнет и варвары всем овладеют. В виду этого и древние отцы, как свидетельствует сам Василий Великий, не причисляли к убийцам тех, которые убивают на войне, извиняя их как поборников целомудрия и благочестия; ибо если будут господствовать варвары, то не будет благочестия, ни целомудрия: благочестие они отвергнут, чтобы утвердить собственную религию; а в целомудрии никому не будет дозволено подвизаться, так как все будут принуждены жить так, как они живут. А великий в божественном учении Афанасий, в своем каноническом послании к монаху Аммуну говорит буквально следующее: “Непозволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно и похвалы достойно”. Согласен с Зона-рой и другой авторитетнейший византийский канонист – патриарх Антиохийский Феодор Вальсамон, который, так же как и Зонара, замечает, что предлагаемый Св. Василием совет вообще не был употребляем в действии, как по неудобности, так и по уважениям в начале сего правила изложенным. Таким образом, православное каноническое право не только не считает грехом убийство на поле брани, но и не признает за воином его совершившим какой-либо сакральной нечистоты, влекущей отлучение от Причащения. В своем каноническом послании, которое цитирует Зонара, свт. Афанасий Великий дословно говорит следующее: «Убивать врагов на брани, и законно и похвалы достойно. Таких великих почестей сподобляются доблестные в брани, и воздвигаются им столпы, возвещающие превосходныя их деяния.
Особняком стоит запрет священнослужителям вступать в воинскую службу (7-е правило 4 Всел. Собора) и запрет принимать в клир, совершившего вольное или невольное убийство (5-е правило Григория Нисского), однако, очевидно, что запрет священнослужителям, касающийся воинской службы имеет ввиду недопустимость для клирика принимать на себя какие-либо мирские попечения, и к оценке военной службы как таковой не имеет никакого отношения. Это видно и из самого правила, которое запрещает вступать священнику не только в военную службу, но и в любой «мирской чин». Что же касается правила свт. Григория Нисского, то оно подразумевает обыкновенное убийство, но отнюдь не убийство на поле брани, которое, согласно тому же правилу свт. Василия, в убийство не вменяется. Подтверждением этому является тот факт, что солдаты, в последствии оставившие воинское звание, не редко становились священнослужителями. Более того, история Церкви имеет множество примеров участия духовенства в боевых действиях, по окончании которых оно продолжало беспрепятственно совершать священническое служение. Например, Вальсамон рассказывает о таком случае: «Когда император Фока потребовал, чтобы убиваемые на войне причислялись к мученикам, тогдашние архиереи, воспользовавшись этим правилом, заставили Царя отказаться от своего требования, говоря: «каким образом мы причислим к мученикам, падших на войне, которых Василий Великий на трехлетие устранил от таинств, как имеющих нечистые руки?». Когда же, по царскому приказанию, предстали пред собором различные священники, а также и некоторые епископы, и признались, что они участвовали в битве с неприятелями и убили многих из них, то божественный и священный собор, следуя настоящему правилу и сорок третьему того же святого и другим божественным постановлениям, хотел, чтобы они более не священнодействовали; но большинство и особенно те, которые были воинственны, настояли на том, что они даже достойны наград». Можно по-разному относиться к случаям участия священнослужителей и монашествующих в боевых действиях, однако, необходимо помнить, что они имели место в ситуации не только крайне опасной для отечества, но и для существования Православной Церкви на его территории. Обращаясь к отечественной истории, нужно признать, что нам неизвестны исход Куликовской битвы и участь православного христианства на Руси, не благослови преподобный Сергий Радонежский на битву с монголами не только благоверного Князя Димитрия Донского, но и схимонахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Известно, что во время Отечественной войны 1812 г. многие священнослужители принимали участие в борьбе с оккупантами, в том числе создавая и возглавляя партизанские отряды. Так, священник села Крутая гора Юхновского уезда Смоленской губернии Григорий Лелюхин, увидев, что отряд французских мародеров (человек 50) ограбил церковь и осквернил алтарь, убедил своих прихожан устроить погоню. Вооружившись топорами и вилами, крестьяне догнали грабителей в лесу и, перебив их, отобрали церковное имущество. Воодушевленные удачей крестьяне вскоре увеличили свой отряд до 200 чел. На колокольне храма они посадили сторожевого, который при приближении мародерских отрядов звонил в колокола, и крестьяне во главе с отцом Григорием отражали нападение, а священник села Тарбеево Сычевского уезда Петр Протопопов вместе с пономарем своего храма Иваном Белявским и прихожанами взяли в плен 23 вооруженных француза и передали отряду казаков.



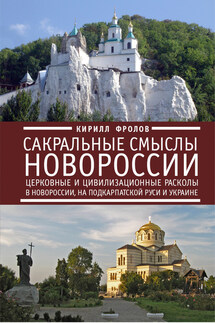

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



