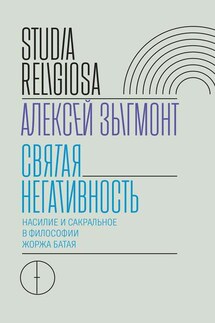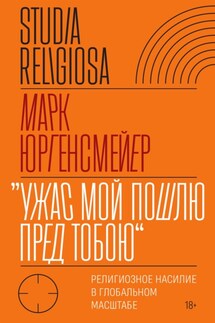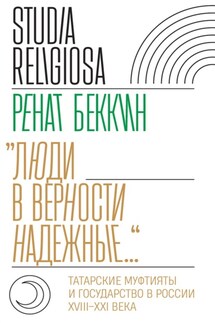Святая негативность. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая - страница 2
Второй момент – посещение Батаем семинаров по «Феноменологии духа», которые Александр Кожев вел в Высшей школе практических исследований в 1934–1939 годах. Винсент Декомб в своей работе «Тождественное и иное» (1978) представляет этот семинар как своего рода «матрицу» всей французской мысли XX века, оказавшую серьезнейшее влияние, например, на таких мыслителей, как Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, Ж. Ипполит и многих других[13]. По его словам, Батай также принадлежал к поколению «трех „H“» (Hegel, Husserl, Heidegger), философию которых вдохновляли прежде всего эти немецкие мыслители. Оригинальная кожевская интерпретация гегельянства оказала на Батая столь сильное влияние, что он, по собственным же его словам, выходил с семинара «растерянным, уничтоженным, десятикратно убитым», и, в сочетании с иррационализмом, также определила собой все содержание его философии. Исследователь Кристофер Гемерчак, автор «Воскресенья негативности» (2003) – самого полного на сегодняшний день труда о влиянии Гегеля на Батая, – отмечает, что без осознания масштабов этого влияния понять батаевскую мысль совершенно невозможно[14].
Подобное заявление при всей его радикальности вполне подтверждается и свидетельствами самого автора: так, в знаменитом «Диспуте о грехе», состоявшемся в 1943 году в самый разгар войны в оккупированном Париже, он говорит: «…я не делаю никакой тайны из того, что являюсь прежде всего – хотя и не до конца – гегельянцем»[15]. Следует обратить внимание, что объявляет он это Ж.-П. Сартру и Ж. Ипполиту, вместе с ним посещавшим кожевский семинар в 1934–1939 годах, пытаясь тем самым нащупать общую почву для их дискуссии. С другой стороны, это уклончивое «не до конца» вынуждает нас спросить: что же он, в таком случае, прибавляет к кожевскому гегельянству, что он с ним делает? в докладе для Коллежа социологии от 5 февраля 1938 года он дает нам относительно этого следующую подсказку:
…любопытно было бы обратиться к этому столкновению хоть в общих чертах: почему бы, скажем, не свести меж собой данные научной – или претендующей на научность – социологии и чисто феноменологические данные Гегеля. Может статься, то, что я пытаюсь сделать, окажется в итоге сведено к этому столкновению […] Гегелевская феноменология представляет дух как сущностно гомогенный. Однако же новейшие данные, на которые я опираюсь, сходятся в том, что устанавливают между разными областями духа формальную гетерогенность. Идея ярко выраженной гетерогенности, которую французская социология устанавливает между сакральным и профанным, представляется мне совершенно чуждой Гегелю[16].
Итак, к уточнению или даже «исправлению» гегелевской мысли здесь оказывается привлечена французская социология и теория сакрального. Именно этим сочетанием можно определить формулу его «Теории религии» (1948) – из всех его текстов самого гегельянского и самого важного для нашей работы. Совершенно то же он говорит и в одной из своих поздних статей, целиком посвященных Гегелю, – «Гегель, смерть и жертвоприношение» (1955): позиция немецкого мыслителя поверяется здесь мироощущением архаического человека, живущего вровень с сакральным: «Я хотел дать почувствовать одну точную оппозицию: …позиция Гегеля менее целостна, чем позиция наивного человека»