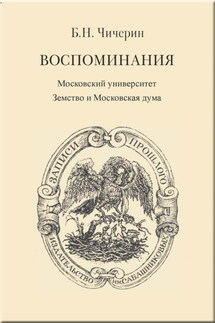Святость над пропастью - страница 21
Еще не взошло солнце, а колокол пропел к заутренней. После ранней молитвы во львовском армянском соборе началось поспешное оживление, привычное для воскресных дней. На часах было пять часов утра, за горизонтом медленно просыпалось солнце, бросая косые, еще холодные лучи на спящий город: под крышами домов, за высокими частоколами горожане – мужчины, женщины, дети; не спали лишь служители церквей – конец недели день особенный. Зажигались свечи, пламя отражалось в золоченых канделябрах, высокие белоснежные колонны уходили в высоту к белым, изукрашенным резьбой, аркам, представляющих собой нечто наподобие купола над алтарем. Стены и купол собора украшала причудливая, на восточный мотив мозаика, освященная всегда дневным светом. Все великолепие собора с его южными яркими красками и изысканностью барокко приводило в восторг искушенного и неискушенного посетителя, в наивности своей судившие об обители по неприметному внешнему виду, открывающегося у ворот.
Служители в черных одеяниях проходили по главной зале, подолы их ряс шуршали при каждом шаге. В их руках были подсвечники с зажженными свечами, отчего в церкви становилось жарче и душнее.
Отец Дионисий Каетанович наблюдал за шествием чуть в стороне, подле него с победоносно-горделивым лицом красовалась крупная фигура армянского архиепископа Жозефа Теофила Теодоровича, для которого этот собор являлся не просто местом святого поклонения, но детищем трудов и заслуг его, когда он с таким усилием восстанавливал-возрождал сию обитель ради нынешних армян, проживающих в Польше, и их будущих потомков. Отец Жозеф не жалел никаких средств, приглашал со всех уголков света армянских зодчих и мастеров, художников и скульпторов, щедро вознаграждал за праведные труды, самолично руководил реставрацией и со счастливой улыбкой на устах наблюдал, как полуразрушенные стены, алтарь, галерея преображаются в новые-красивые формы.
Ныне собор вновь был действующим, его ворота открывались для всех верующих, страждущих, скорбящих, просящих, для вдов и сирот.
Отец Дионисий, наблюдая за воскресными приготовлениями из-под полуприкрытых век, из последних сил боролся с нашедшей сонной хандрой, явившейся следствием ежедневного недосыпа и навалившейся работы. Как год назад был введен во львовскую армянскую епархию, получивший право занять должность префекта научно-исследовательского университета именем Юзефа Торосевича за прошлые свои заслуги в области философии и христианской литературы. Он гордился резким повышением на жизненной стезе, не без радости примечая, как счастлив находиться среди своих – своего народа. Еще служа в Кракове, отец Дионисий тосковал по отчему дому и, находясь среди ордена реформаторов, осознавал их несколько отстраненно-холодное к себе отношение. Да, они почтительно обращались к нему, приходили с советами, но все же для них он оставался чужаком, не таким как все. Здесь же, в армянском приходе, он слышал своих, говорил на родном с рождения языке, каждой клеточкой ощущал себя частью этого отдельного-закрытого мира – он был у себя дома, на своей земле.
Мысли о пережитых горестях, потерях и терзаниях, сменившихся благодатным саном и долгим трудом птицей пронеслись в голове – или то была полудрема в столь ранний час? Отец Дионисий пересилил себя, всей своей волей поддался вперед, с полным вниманием уставился на длинную процессию викариев, канонников и прочих шедших по двое в ряд между деревянными скамьями для прихожан.