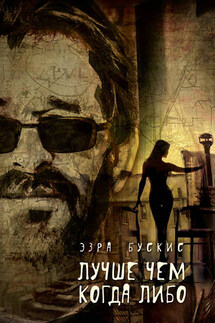Связанный гнев - страница 52
– Никуда тебя не отпущу. Поняла? Моя ты!
– Конечно, твоя.
Болотин обнял и крепко поцеловал Анну. Шуба из рук Анны упала на пол. Она слышала шепот Болотина:
– Останься со мной до утра. Мы же сознались друг другу…
Анна ответила так же шепотом:
– Останусь…
К казарме, прозванной Девкиным бараком, в сугробных наметах протоптан глубокий желоб тропы. Тусклый свет в окнах казармы.
Просторную ее внутренность освещала потолочная лампа с закоптелым стеклом. Свет от огня желтый. На бревенчатых стенах бусины затвердевшей смолы. На полу рогожи. На входной двери в пазах кошма, в пушистом инее, обледеневшая у пола.
Вдоль стен – деревянные кровати за ситцевыми пологами, разными по цвету и рисункам. Длинный стол из толстых досок на козлах, возле него лавки. Возле рукомойника и кадки с водой в углу сложены в кучу старательские инструменты. Дрова у печки, а на снопе соломы слепые щенята сосут матку. Жителей в эту зиму негусто. Невидимые за каким-то пологом стукают часы-ходики. А у среднего окна, поджав под себя ноги, сидела Амина и пела старинную унылую башкирскую песню, аккомпанируя себе на гитаре.
На кровати с отдернутым пологом лежала с изможденным лицом Катерина, обезножившая с осени от ревматизма. Ее дочь Дуняша, девочка-подросток, худенькая, вся из одних косточек, облокотилась на стол, положив голову на левую ладонь, задумавшись, ела из глиняной миски пшенную кашу. Светлые, как солома, волосы девочки заплетены в две жиденькие косички с алыми ленточками. Косоплечая грудастая Тимофеевна, сидя на дровах, щипала от полена лучину. Аккуратно одетая Антонина ставила самовар. Отодвинув от стола скамейку под свет лампы, читала книжку Паша. На печи лежала Зоя-Рюмочка и лущила семечки. Подле рукомойника, подоткнув подол, в одном лифе, стирала белье Алена. В щелях бревен задорно скрипели сверчки.
– Дуняша!
Девочка, очнувшись от раздумья, вопросительно посмотрела на Тимофеевну:
– Чего тебе?
– О чем призадумалась, девочка?
– Песню слушаю. Какая она не схожая с нашими по напеву.
– Башкирская. Оттого и не схожая.
– Мне глянется, Амина хорошо поет.
– Тоскливая больно, – вздохнув, сказала Зоя. – Но слушать ее приятно, потому Амина поет. С таким голосом ни в жизнь бы по приискам не моталась.
– А куда б подалась?
– Пошла бы, Тимофеевна, в шантан. Шансонеткой петь дуроголовым купцам. Ногами бы в крахмальных юбках дрыгала.
– Скажешь тоже! Эх, Зоинька… Амина плясать не умеет. Вот ты на это мастерица. В пляске легонькая, будто перышко. Но зато голосочка у тебя нет.
– Знаю.
– Люди сказывали, будто ты на ярмарке в балагане представляла. Поди, врут, завидуя твоей вальяжности?
– Сущая правда, Дуняша! Турчанкой наряженная в шальварах в танце голым пузом крутила. Но не судьба мне балериной быть.
– Что так?
– Характер гордый. Купец на сильном взводе мне сигарой холку прижег. Мне бы стерпеть и красненькую с него за нахальство взять. Так нет! Я его по морде дрыбалызнула, да так ловко, что вставные челюсти его в черепки раскрошила. Он меня в полицию поволок. Спасибо, знакомый пристав признал, что правильно поступила. С ярмарки все же пришлось убраться. С весны решила в театр поступить. Ревнивых любовниц стану представлять. Здорово они у меня получаются. Прямо будто на самом деле.
– Помолчи, Зоя! Читать мешаешь.
– А я с тобой, Пашенька, будто не разговариваю. Умница-разумница. Без малого год одну книжку читаешь. Может, наизусть учишь?