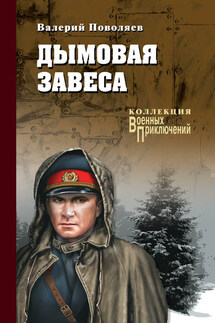Сын Пролётной Утки - страница 46
Взгляд матери сделался укоризненным, печальным, в глазах ее возник горький внутренний свет, лицо продолжало оставаться неподвижным. Мать молчала. Иннокентий зажато всхлипнул, пожаловался:
– А я, вот видишь, охочусь не всегда удачно. Впрочем, чего там, – спохватился он, и удачи ведь бывали: – Песца бью, оленя бью – диких оленей развелось очень много, разрушают прирученное оленье племя, стада, уводят оленух – люди обижаются на них, вот. Морзверя бью, – Иннокентий развел руки, – хотя морзверь не тут, ты знаешь, живет, он больше на севере, но я его все равно бью, мяса-то ведь морского хочется. – Иннокентий всхлипнул, заторопился, видя, как фигурка матери качнулась, лицо ее задрожало, из-под ног заструился слабый туман, и тихая женщина эта вроде бы приподнялась над землей, ровная, ладная стройная, красивая – таких красивых женщин, как мать, Иннокентий больше не встречал в своей жизни, если бы встретил – обязательно бы женился – бросил бы свою Ольгу, быстроглазую, крутую норовом камчадалку, хоть и привязан к ней, а тут, наверное, расстался бы, потому что мать для Иннокентия – идеал всего красивого, что живо, что дышит и существует на земле, в тундре, в реках, во льдах. – Морзверя бью и оленя бью, – повторил он и снова подвинулся к матери.
Уже никого не осталось в живых, все ушли вслед за Пролетной Уткой – Анной Петровой, его матерью, ушел отец Семен Петров – Быстрая Рыба, ушел суровый сильный дядя Иван Петров – Копыто Оленя, был когда-то, но нет уже больше Летящего Боевого Топорика, все изменилось, реки утекли, тундра отцвела, вода из озер выпарилась. Неправда, что все остается – ничего не остается, все умирает, жизнь коротка, и печали, дум, одиночества в ней больше, чем всего остального. Иннокентий согнулся потрясенно, словно бы сделал открытие, уперся руками в мох, не чувствуя холода земли – а ведь то, о чем он сейчас думал, действительно потрясло его, пробило насквозь, будто пуля-турбинка – дыра осталась; Иннокентий понял, почему мать явилась – сегодня годовщина ее смерти. И он за все годы, когда матери не было, ни разу не помянул ее, хотя надо было бы как-нибудь усадить свое семейство на мох – Ольгу и Ваньку, – кинуть перед ними скатерку, распечатать консервы, рыбные и мясные, заколоть оленя, чтобы был суп и горячее мясо, по алюминиевым кружкам разлить спирт, себе побольше, Ольге поменьше, Ивану спирт развести морсом – от того, что он выпьет пяток-десяток глотков, худо не будет, пузо ему не разорвет, – и помянуть мать.
И вообще пусть этот день навсегда станет днем поминовения родителей. Пока Иннокентий жив. А умрет – и день изменится, у Ивана этот день, может быть, будет другим – вполне возможно, что день Иннокентиевой смерти – душа его будет метаться, требовать внимания, не успокоится, пока живые, в частности Ванька, не отдадут ей дань, а когда отдадут – беззвучно засочится слезами и уйдет к верхним людям, к родителям, к Быстрой Рыбе и Пролетной Утке.
– Прости меня, Пролетная Утка, – прошептал Иннокентий, качнулся вперед, собираясь вновь передвинуться по песку, но сдержал себя – сейчас он коснется ног матери, ее обуви – нарядных рыбьих чувячков, а касаться нельзя, мать живет среди верхних людей, он – среди нижних, пересечений быть не может, каждый живет в своем мире. – Должен был поминать тебя – не поминал! – Иннокентий горестно покрутил головой. – Виноват я!