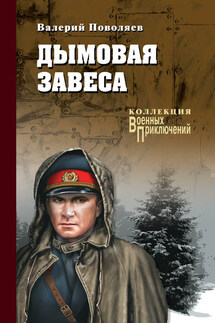Сын Пролётной Утки - страница 48
Летящий Боевой Топорик хотел умчаться со своей частью сладкого в тундру, расправиться там в одиночку с угощеньем, но мать удержала его:
– Ты не спеши, сын! Не спеши, пожалуйста!
К губам ее была прочно припечатана улыбка – какая-то не своя, неестественная, будто бы раненная, ну словно матери было больно, а она силком заставляла себя улыбаться, одолевать боль, но все равно боль брала свое, проступала на поверхность, но если уж улыбка могла обмануть, то взгляд матери никак не мог – глаза были изнуренными, белесыми от страдания, незнакомыми – это были совершенно чужие глаза, и у Топорика, когда он заглянул в них, тоскливо сжалось в крохотный кулачишко сердца, а потом вдруг с силой, очень гулко забарабанило в пустом пространстве, словно у него ничего, кроме сердца, не было.
Большой, подперший самую грудь живот матери мешал ей двигаться, обнимать сына, глядеть на костры, на ровную, без единой морщины гладь озера, на нарядных людей, слушать шаманский бубен, комариную звень и тишь теплого стоячего воздуха. У матери, Боевой Топорик знал, должен был родиться ребенок, братик, и как он уже уразумел из разговоров, люди собрались здесь затем, чтобы отметить это дело. Топорик был доволен – скоро появится братик, вдвоем им будет не скучно – заботы у них будут общие, жизнь общая, все общее, он научит мальца бегать по тундре, сквозь ледяные сколы смотреть на солнце и есть вкусные оленьи губы… Интересно, как его назовут? Наверное, имя уже придумано – родится он под бубен, взрослые подождут немного, посмотрят, что за человечек дышит воздухом, и потом уже определятся в имени окончательно.
– Мам, у меня братик будет? – поинтересовался Летящий Боевой Топорик.
Мать не ответила, только тихо качнула головой, и глаза ее вдруг наполнились слезами. Слез пролилось сразу много, глаз не стало видно, ресницы слиплись, сделались тяжелыми, мать еще раз по-оленьи мотнула головой, попросила едва слышно:
– Ты посиди пока со мной, а? Не бросай меня, ладно?
– Ладно, – как можно небрежнее ответил Летящий Боевой Топорик – ему казалось, что так отвечают, так могут и должны отвечать только взрослые люди, а Топорик старался уже быть взрослым.
Несколько минут он посидел около матери, но потом ему стало скучно, да тут еще подоспели вареные языки и губы, и Топорик не выдержал, вскочил.
Хотел было унестись без всякого предупреждения, но снова наткнулся на ищущий, загнанный взгляд матери и пробормотал скороговоркой, глотая слова, как все торопящиеся люди:
– Мам, я сейчас! Губы дают – не достанется, мам… А?
Мать гулко сглотнула слезы, потрясла головой меленько-меленько, скорбно, улыбнулась через силу – она пыталась что-то скрыть от сына, от собравшихся, но не могла.
У латунного, начищенного, как солнце, блюда с горячими оленьими языками и губами уже сидели две старухи и жадными руками ковырялись в лакомстве. Люди меньшего возраста для них не существовали – старухи толкали друг друга локтями, ссорились, тут же мирились, громко чавкали и вели разговор, который не услышать мог, наверное, только мертвый.
– Ей все равно не разродиться, ни за что не разродиться – песня спета, – сказала одна старуха.
– Таз узкий, ребенок косо пошел и застрял, – подтвердила другая.
– У белолицых есть доктора, они, говорят, делают что-то, и тогда дети бывают живы, а матери умирают.
– Русские далеко, ехать к ним долго.
– На оленях по мху – не меньше недели.