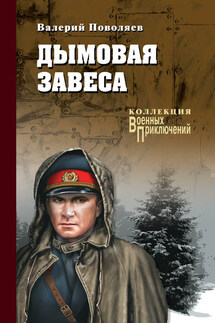Сын Пролётной Утки - страница 50
Лицо ее было белым как снег, из нижней, насквозь прокушенной губы на подбородок выкатилось несколько алых капелек. Копыто Оленя стоял рядом молча, ждал. Наконец мать выпрямилась, подняла белое влажное лицо, всмотрелась в небо, нашла там что-то, ведомое только ей одной, да, может быть, еще безглазому шаману, улыбнулась скорбно, с трудом, перевела взгляд на сына, неслышно зашевелила губами. Топорик понял, что она произносит его имя, сердце у него сжалось, обращаясь в кулачишко, в гладкий обкатанный камешек, выброшенный на берег волной, дрогнуло, и сам он дрогнул – ощутил, как заплясали губы от жалости к матери, но Топорик сдержался, он обязательно должен был держаться на людях и не подавать вида, что ему плохо, отвел взгляд.
То, что отвел тогда глаза от матери, он потом не мог простить себе всю жизнь. Для матери в те минуты из всех живых существовал только один человек – сын, больше никто, она даже на мужа не взглянула ни разу, ибо Быстрая Рыба был виноват во всех ее мучениях.
Повернувшись спиною к костру, к людям, к сыну, мать пошатываясь медленно побрела мимо озера в тундру, два или три раза ступила на влажный край бережка, оставив там легкий узкий след, потом пошла по ягелю, который покорно вдавливался, проседал под ногой, а затем, будто резиновый, выпрямлялся.
Дядя, взяв в руки винтовку, пошел следом за матерью – чуть в стороне и поотстав на несколько метров, опустив голову и шагая так же, как и мать, меленько, скорбно, не по-мужски, и оттого, что Копыто Оленя подделывался под шаг матери, Топорику сделалось еще страшнее, он втиснул голову в плечи, потом всем телом влез в колени, обхватил лодыжки пальцами, притянул их к себе, разом превращаясь в пеликэна – скорченного чукотского божка, приносящего счастье охотникам и китобоям, внутри у него родилось рыдание, но Летящий Боевой Топорик нашел в себе силы задавить его, лишь прошептал едва приметно, сам того не слыша, вкладывая в этот шепот всю нежность, что у него была:
– Ма-ма! – Ткнулся лбом в колени, попытался сжаться еще, но было уже некуда, посидел несколько минут неподвижно, потом чуть приподнял голову и открыл глаза.
Дядя с матерью отошли уже метров на двести; мать отрывалась от дяди, шла все проворнее и легче, словно бы хотела убежать, – видать, боль отпускала ее, дядин же шаг, напротив, слабел на глазах, тяжелел, становился грузным, словно бы Копыто Оленя оседал на ходу, он отставал от матери.
Словно бы что-то почувствовав, мать оглянулась, подняла призывно руку, и Топорик понял, что мать ищет его, взнялся над самим собой, словно подброшенный ружейной пружиной, но мать не смогла разглядеть его, на лице ее засветились зубы, она окинула взглядом родное стойбище и отвернулась.
В ту же минуту дядя, словно бы что-то преодолев в себе, пошел быстрее, легче – усталость, навалившаяся на него, отступила, на ходу дядя вскинул винтовку и не целясь выстрелил по матери. Шаг его не сбился ни на сантиметр.
Звук выстрела не сразу донесся до людей – всем показалось, что вначале громыхнуло эхо, а уж потом докатился сам выстрел.
Мать еще несколько секунд двигалась по инерции, хотя всем телом своим уже заваливалась назад, с головы ее соскочила шапочка, распласталась ярким цветком во мху, потом с шеи сорвалась нитка с яркими бусами, беззвучно рассыпалась, затем упало еще что-то и уж следом на землю повалилась сама.