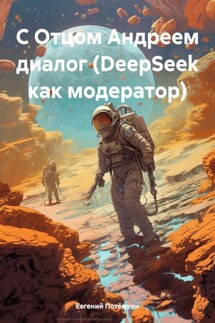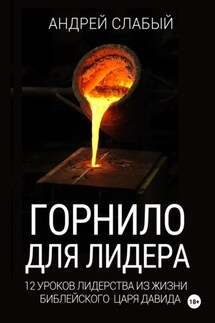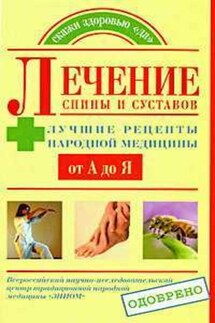Таинства в истории отношений между Востоком и Западом - страница 48
Без сомнения, Лютер подверг столь жесткой критике вполне определенное ошибочное понимание opus operatum некоторыми своими современниками, и в этом плане его критика была абсолютно справедливой. Но следует заметить, что формула opus operatum у Фомы Аквината никогда не означала «реального сообщения благодати независимо от веры (или даже неверия) воспринимающего». Пеш замечает: «Формула non ponere obicem (не воздвигать препятствия) определенно подразумевает прежде всего запрет выдумывать что-то как о совершении Христова таинства, так и о заключенной в нем спасительной благодати . Однако устанавливаемое таким образом пассивное отношение к происходящему есть не нейтралитет, обусловленный автоматизмом таинства, а позитивная пассивность веры, которая добровольно предоставляет происходить тому, что творит Бог» [297].
Итак, ясно, что Лютер боролся не против собственно католического учения об opus operatum (даже если ему самому так казалось), а против извращения этого учения. Он исходил из той точки зрения, которую в противоположность онтологической точке зрения (таинство в себе) можно было бы назвать экзистенциальной (таинство для нас). Старые понятия он наполнил новым содержанием, что неизбежно привело к смещенному и ошибочному пониманию позиции предшественников. Opus operatum означало для Лютера действие без веры, т. е. и без Христа. Opus operantis, напротив, для него есть дело Христа, и на этом основании он исключил из веры все магические представления, которые некоторые его современники связывали с opus operatum.
На втором этапе развития своего учения о таинствах, открывшемся «Проповедью о Новом Завете, или О святой мессе» в июле 1520 г.,
Лютер напрямую связал таинство со словом Божьим. Проповедание слова Божьего возможно двумя способами: 1. Собственно словом, которое, будучи выраженным в Евангелии , указывает на обетование и которое, будучи знаком, сакраментально, ибо Евангелие[298] приводит к тому и дает то, на что оно указывает, – прощение грехов во Христе. Об этом Лютер говорил уже в своей рождественской проповеди в 1519 г.: «Все слова, все истории Евангелия суть, можно сказать, таинства (sacramenta quadem), т. е. святые знаки, через которые Бог оказывает на верующих воздействие, отвечающее содержанию этих историй» [299].
2. Проповедание слова Божьего осуществляется также через таинство, т. е. через слово обетования, на которое указывает внешний знак. В «Проповеди о Новом Завете, или О святой мессе» Лютер дает такое разъяснение: «Бог во всех Своих обетованиях рядом со словом обыкновенно полагает и знак – ради большей достоверности или укрепления нашей веры: Ною Он дал в качестве знака радугу, Аврааму – обрезание, Гедеону – дождь на землю и овечью шкуру. Так и Христос поступает в Новом Завете и скрепляет Свое слово могучей и благородной печатью и знаком : она есть Его собственное истинное тело и кровь под видом хлеба и вина; ибо мы, бедные люди, живущие пятью чувствами, должны получить внешний знак наряду со словами, за него мы держимся и к нему сообща обращаемся, так что этот знак и есть таинство