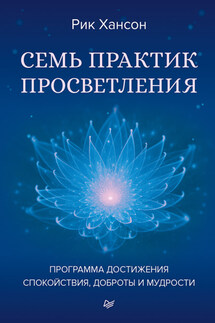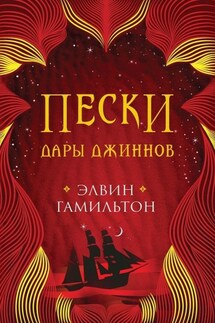Танцевальная психотерапия и глубинная психология - страница 7
Им нравились жуки. Поэтому мы долго рассматривали найденных жуков, придумывали разные «жучиные походки» и ходили так по студии. Если какой‐то малыш получал ссадину или царапину, все остальные изучали ее с величайшим интересом. На каждом занятии мы тратили какое‐то время на то, что собирались в круг и все по очереди демонстрировали свежие «болячки», а затем с помощью пантомимы показывали, как они их заполучили. Мы строили города воображаемыми инструментами и из воображаемых материалов. Мы по‐своему проживали в танце все праздники: представляя то, как мы готовим еду, одеваемся в народные костюмы и разыгрываем историю того или иного народа. Мы превращались в самых разных диких животных. А еще мы изображали кошек, собачек и других домашних питомцев. Мы представляли себя учителями, мамами, папами, старшими и младшими братьями и сестрами. Мы изображали в танце гусениц и свивали из себя коконы, в которых мирно спали до тех пор, пока не наступало время вырваться бабочкой (к собственному великому изумлению) из кокона на волю. Понятия «танец» и «превращение» стали синонимами.
Занимаясь с такими маленькими детьми в танцевальной студии, я стала интересоваться преподаванием танцев в детских садах. Через дорогу напротив моей студии располагался детский сад Хэйта. Я начала сотрудничать с его директором Этель Янг. Мы разработали ряд программ и методических руководств для учителей по роли искусства в образовании маленьких детей. Мы считали, что все виды искусства: танец, живопись, лепка из глины, декорирование – это язык, с помощью которого дети выражали свой опыт и интерпретировали его. Этель помогла мне понять, что так называемый «процесс детского развития» неразрывно связан с процессом творчества. В эти годы, работая с малышами, а также с их родителями и педагогами, я приобрела то понимание развития, которое впоследствии пронизывало все стороны моей деятельности в области танцевальной терапии, психотерапии и юнгианского анализа.
Однажды в начале 1960‐х годов социальный работник Центральной окружной больницы Лос‐Анджелеса пришла в детский сад, чтобы позаимствовать опыт и улучшить программу лечения больного аутизмом ребенка из психиатрического отделения. Увидев, как я двигаюсь с детьми на занятии в танцевальной группе, она пригласила меня поработать с больными в детском психиатрическом отделении. К тому моменту психологического образования у меня еще не было.
В первый день я поднялась на шестой этаж очень старого здания. Двери были заперты. Здесь проходили лечение около 15 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Большая часть детей были психотиками. К тому же, кто‐то страдал слепотой, кто‐то – глухотой. Кто‐то упорно избегал контакта. Кто‐то хотел, чтобы их удерживали в объятиях, обнимая, но не очень долгое время. Один малыш привязывался к каждому взрослому, которого ему удавалось найти. Ребенок тянул взрослого за собой туда, где лежала вещь, которую он хотел, но не мог достать сам. Указывая на нее пальцем и издавая требовательные звуки, он, как правило, ее получал. Затем он с великим старанием пытался спрятать свое новое сокровище во рту, за пазухой или в штанах. Другой малыш лет восьми слонялся туда‐сюда, монотонно повторяя: «Я очень злой. Я очень злой мальчик».
В общей комнате для дневных занятий были облупившиеся желтые стены и батареи старого образца. Я вошла с переносным фонографом, пластинками, шарфами и барабаном. Одна из уставших нянечек подняла на меня глаза. Некоторые дети сидели, уставившись в одну точку и разговаривая сами с собой. По комнате, закатив глаза, на цыпочках ходила маленькая девочка. Я не могла определить, слепая она или зрячая. Вдоль окна кипела бурная деятельность: несколько ребятишек лазали вверх и вниз по батареям. Неожиданно я почувствовала, что могу все сразу изменить, если поставлю чудесную музыку. Помню, я включила запись украинского гопака.