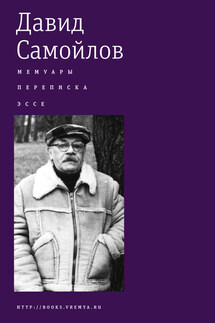Читать онлайн Наталья Иванова - Текст и контекст. Работы о новой русской словесности
© Н. Б. Иванова, 2024
© «Время», 2024
Перед книгой
Существует устойчивое мнение, что новая и свободная русская литература появилась благодаря либерализации режима, наступившей гласности, после отмены цензуры перешедшей в свободу слова.
Сегодня, проливая слезы – свет? – на(д) недавней историей, хочу развеять этот миф – и сказать, что сами литераторы (писатели, издатели, редакторы и прочие литературные люди) много чего сделали, – прежде всего написали, а еще и сохранили, открыли, отстояли. В общем, это была повседневная, кропотливая, затратная по энергии и мало вознаграждаемая (иногда и малозаметная), но очень важная работа. Участвовало в ней много прекрасных людей, моих соседей по времени, нескольких, как я теперь понимаю, поколений.
Продумывая и собирая эту книгу, я сначала хотела поместить сюда самое-самое и уже выстроила план, а потом поняла, что интереснее идти по реке времен. Именно хронология строит сюжет – и литературы, и общества, и собственной жизни. И будет неправильно ставить метки по наиболее важному, а не по самому пути. Тем более – в те годы, с начала 1980-х по 2020-е, тому 40 лет, все совпало: жизнь, литература, общество – и мои обо всем этом размышления. Чему, чему свидетели мы были. И наблюдатели. Включенные в процесс.
Не всегда мои наблюдения и размышления были точными – но всегда были искренними, и, как показали прошедшие годы, ни от чего не хочется отречься, избавиться, ничего не хочется оставить и забыть. Так ведь все развивалось – и во мне очнулось. Сама судила и сужу строго, но что делать, – свои строгости всегда выносила на профессиональный и читательский суд. Делаю это и сейчас.
Почему я начинаю с 1980 года? Потому что уже тогда усилиями моих будущих коллег в редакциях и за письменными столами начинало развидняться. Свет был виден – и исходил он не только из андеграунда, но и от свежих публикаций. Сколько не резали и не калечили, в литмире становилось разнообразнее, интереснее, в голову лезли ненужные вопросы, запахло близкой весной, дорогие друзья и товарищи. Скажут, она, эта весна, была совсем советская, – не соглашусь. После московских повестей, особенно «Дома на набережной», Юрия Трифонова можно было дышать и писать. Я начала это активно делать с 1981 года. А после внезапной кончины Трифонова стала писать о нем и его прозе книгу. Если проанализировать, что и как появлялось, несмотря на цензуру, станет понятнее, почему к 1986-му все уже было готово.
С тех моментов – сигналов, звоночков, публикаций, о которых надо бы говорить погромче, делать их заметнее – и началась новая литературная жизнь. В том числе – у меня лично. А поскольку все эти десятилетия я сочетала профессии литературного критика, редактора и издателя, то еще раз назову себя так: включенный наблюдатель.
Надежный ли я повествователь? Не мне судить. Да и в принципе – настоящее и прошлое литературы складывается не только из того, «как это было», но и из того, «как я это вижу».
Поэтому можно ее читать в модном ныне формате автофикшн – как книгу про себя. Поскольку в современной русской словесности я существую в трех ролях, это, конечно, отражается в текстах. И является – отчасти – их контекстом.
Начальный план сводился к разделению работ на несколько частей. Первая – теория литературы и критики (в течение нескольких лет я читала курс теории литературы на филологическом факультете МГУ имени Ломоносова и вела семинар по теории критики с магистрантами). Вторая – история литературы (предметом отдельного интереса для меня был и остается советский период существования русской словесности, особенно эпоха сталинизма, раннего, зрелого и позднего, а также 1960-е как оттепель – 1970-е как время застоя – перестройка и гласность и постсоветский период, тоже на глазах становящийся историческим). И третье, основное и объединяющее – непосредственно литературная критика, поскольку все эти годы и при всех занятиях я оставалась «практикующим» критиком.
Время летит, и новые поколения литераторов, включая критиков, все дальше отходят от знания прошлого, которое для меня и критиков моего поколения еще не остыло. И сам сюжет развития и перехода недавнего прошлого литературы в ее настоящее является чрезвычайно увлекательным (я уже реализовала «Хронику 90-х» от года к году, начиная с 1986-го, в цикле, над которым не прекращаю работать, – но сюда он не вошел, никакой переплет не выдержал бы). И мне показалось важным для читателей разных уровней знаний и подготовки ввести одних в атмосферу происходившего, а другим, участникам процесса, напомнить об открытиях, сражениях, потерях и разочарованиях недавнего былого.
Еще об одном. Вернее, о двух взаимосвязанных важнейших вещах.
Книгу открывает критическая публицистика, отчасти фельетонного характера (накануне перемен, то есть с начала 1980-х, когда я и стала печататься, почувствовав в воздухе ветерок вольности, – потому и текст, открывающий книгу и опубликованный впервые в журнале «Вопросы литературы» в 1982 году, был назван «Вольное дыхание»). Некоторые абзацы внутри этих статей я сокращала – поскольку речь в них шла уж о совсем окаменевшем и выброшенном на свалку). В основной состав книги вошли литературно-критические проблемные статьи, где фиксировались и анализировались кризисные моменты перемены языка, «слома» поэтики. Самое интересное было следить, как идеологические изменения опережались литературными новациями. Не то что идея правила бал – нет, это литература привносила новые смыслы.
Никакой кризис немыслим и без борьбы литературно-общественных идей – она и пронизывает всю без исключения литературную полемику. К концу 1990-х в атмосфере почувствовалась некая взаимоуспокоенность, литературные идеологи окопались каждый на своей территории, – но в обозримом будущем это мнимое спокойствие будет разрушено, доска перевернута, произойдут события, введшие не только окололитературную публику в ступор. Хотя, если посмотреть внимательно, споры вокруг «врагов народа» и «врагов нации», о чем я писала еще с конца 1980-х, а потом следить за дальнейшим возбуждением имперских идей и намерений, за возвратным движением (с одобрения подновленного гимна), то мои статьи конца 1990-х – начала 2000-х не покажутся такими уж кассандровскими. И здесь тоже хронология служит свою службу – показывает вовлеченность литературы в архитектуру общенационального строительства – или ее соучастие в общих процессах деградации и разрушения.
Внимательному читателю (на него вся надежда, иначе зачем это все) будет видно, как возникают ручейки и формируются литературные потоки, как воздвигаются и разрушаются картонные репутации, декорации и фальшивые монументы, и, наконец, как работает кровеносная система литературы. Которая – пока – для нас спасительна.
Я не включила в книгу ни рецензии на важные для меня книги, ни портреты важных – повторяю, для меня, для моего литературного воспитания и развития – писателей. Книга не резиновая – а с включением этих текстов разных жанров пришлось бы издавать второй том, а к этому пока не готово уважаемое издательство «Время», выпустившее в 2017-м мой сборник «Феникс поет перед солнцем», где такие тексты и помещены. Но писатели, за которыми я пристально следила и творчество которых не уходит из моего сознания, присутствуют в этой книге практически на всем ее протяжении, являясь ее персонажами, действующими лицами, а некоторые – скрепляющими мой литературный мир в единство героями. Вокруг каждого из них я тоже могу составить книгу из своих работ – «Юрий Трифонов и другие», «Фазиль Искандер и другие», «Владимир Маканин и другие», «Андрей Битов и другие»… Но про первых двух я сочинила монографии (соответственно в 1984-м, 9 месяцев в цензуре, – и в 1990-м, уже бесцензурная).
Время резко поменялось в невыгодную в том числе для литературы сторону, многие читатели и писатели вынужденно изменили свою жизнь, среду обитания, окружение и профессию. Искать точки опоры в прошлом, чтобы было откуда выстраивать настоящее, перебирать стратегии и тактики литературного, человеческого поведения – занятие, помогающее жить и выжить.
I. От больших надежд к утраченным иллюзиям
Вольное дыхание
А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!
Иван Бунин
Лет двадцать, наверное, уже прошло с того момента, когда в центре внимания литературной критики оказалась так называемая исповедальная проза. Но век ее – по ряду обстоятельств, углубляться в которые не входит в мою задачу, – был недолог. Победила традиция объективного, близкого к эпическому повествования – и следы эпоса (или зародыши его) критики начали справедливо обнаруживать не только в романах или повестях, но даже и в рассказах, критерием при оценке которых стала служить близость к эпосу. Ориентация на эпос проникла и в «соседние» литературные жанры – солидность, устойчивость, степенность и масштабность стали цениться даже в поэзии (особенно в поэме).
Определение эпический по отношению к тому или иному произведению стало не просто определять жанровую принадлежность, а нести в себе отчетливую позитивную оценку. Расцвет беллетристики, подделывающейся под эпику, лишь подтвердил, на мой взгляд, существующее положение дел. Беллетристикой были успешно освоены стереотипы – производственного конфликта, семейного конфликта, нравственного выбора, нравственного компромисса, героя-конформиста и героя-максималиста и т. д. и т. п. То, что было открытием у мастеров, тиражировалось их многочисленными последователями.
Этот процесс характерен и для так называемой деревенской прозы, где за В. Беловым, В. Распутиным, В. Астафьевым и Ф. Абрамовым тянется шлейф подражателей; то же самое происходило и в городской прозе, особенно явно в той ее части, которая назвалась «московской школой». Однотипность сюжетов и стереотипность героев этой прозы убедительно проанализированы И. Дедковым в его статье «…Когда рассеялся лирический туман…»[1].
Жизнь всегда богаче любых литературных форм, пусть они, эти формы, стали в свое время основой крупных достижений, да и сейчас далеко не исчерпали своего творческого потенциала. Жизненное содержание во всей его непредусмотренности, непредопределенности не укладывалось целиком в ложе привычных, освоенных причинно-следственных связей. Критика эту инерцию художественного мышления почувствовала, заговорив о некоторой «усталости» традиционно-психологической прозы, об отработанности стереотипных конфликтов и клишированных героев, о необходимых процессах «самообновления» литературы, о плодотворности дальнейших стилистических и жанровых поисков.
Еще в конце 1960-х годов в дискуссии о современном рассказе, проведенной журналом «Вопросы литературы», прозаики самых разных направлений отметили движение к необходимой свободе прозаического слова, к раскрепощению от жестких жанровых рамок. Так, Ю. Трифонов замечал: «Латинское прилагательное “prosus”, от которого произошло слово “проза”, означает: вольный, свободный, движущийся прямо… Но века литературы накопили и в прозе свои каноны, шаблоны, жанры. Современная проза, которая иногда ставит читателя в тупик – роман ли это, рассказ, исторический очерк, философское сочинение, набор случайных сценок? – есть возвращение к древнему смыслу, к вольности, к “prosus”»