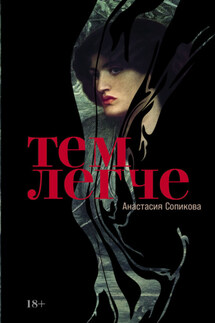Тем легче - страница 2
– Почему ты одна тут? – наконец выдавил он.
Для них ненормально, если человек проводит время один, это верно. У тебя нет права на личное время, пространство, секреты, уединение. Даже у банкомата кто-нибудь да заглянет через плечо – без злого умысла, без умысла вообще. Просто так.
Я пожала плечами. Он затянулся, стараясь держать запястье вывернутым. Я ждала, пока он докурит и, наверное, уйдет, стрельнув еще две-три сигареты. Странно, но мне не хотелось, чтобы он уходил. Нам не о чем особенно было говорить, и, пока он пытался выдавливать из себя слова, я разглядывала его и в душе по привычке жалела, что не привела лицо в порядок.
Но произошло странное: он затушил окурок и забрался на скамейку с ногами, как птенец. Черные кудри тут же рассыпались по щекам – он нетерпеливым, детским движением заткнул их за уши. Зачем-то попросил показать мой плейлист, полистал его так же быстро и нетерпеливо, помотал головой, отдал телефон и включил что-то свое. Я уставилась на свои кроссовки и что-то спрашивала: имя, где он живет, чем занимается.
Компания наверху давно ушла – оказалось, он вообще был не оттуда, просто проходил мимо, он часто бывает здесь, это как бы его скамейка, а не моя, но ничего, он разрешает. Каким-то животным движением он потянулся ко мне, понюхал мои волосы и сказал, что я smell like heaven[9]. Я рассмеялась. Он потерся кудрями о мое плечо – вот тогда-то я впервые назвала его Кисулей, пока только про себя. У него органично, как будто независимо от его маленькой головы, все получалось: сесть чуть ближе, взять меня за руку, разглядывая пальцы, чмокнуть в щеку, погладить по шее, наконец вобрать своими большими мягкими губами мои, и поцеловать меня, и требовательно положить мои ладони на свои щеки.
Ситуация складывалась идиотская и киношная сразу: внизу Кура, древние храмы, зажигались первые фонари. Кругом лежала история, величавая и жестокая, а посреди всего этого сидели мы, странные двое, нелепые здесь. «Критский народ производит больше истории, чем может переварить», – вспомнилось мне из книги. Наверное, он вообще не читает книг.
– So, you're happy with your life?[10] – зачем-то спросила я.
Он покачал головой и выпятил губы. Он начинал раздражать этой гримасой, да еще его английский – и одна часть меня, нормальная, хотела распрощаться и уйти домой; но другая, похотливая, злая, жестокая, хотела остаться, попробовать его, разжевать, рассмотреть со всех сторон это фарфоровое лицо, хрустальные глаза, смоляные кудри.
«Почему меня можно воспринимать как кусок, а я не могу притащить к себе домой красивое существо, трахнуть и выгнать?» В то же мгновение я решила, что могу. А он тем временем, ничего не подозревая, улегся ко мне на колени и жаловался: что он живет с матерью, сестрой, ее парнем и еще кучей народа, что ему хочется сбежать от них, какие у них very big fights[11], какой это плохой район, что он хочет уехать куда-нибудь. Мне хотелось побыть роковой соблазнительницей, а я чувствовала себя доброй мамочкой. Ужасно.
– Я хочу газировки, попкорна и посмотреть «Гарри Поттера», – мяукнул он откуда-то снизу.
Я погладила его по голове.
Он пах не смесью мускуса с потом, как местные мужчины, а пороком и сладостью. Сигаретный дым и какой-то дешевый, кажется женский даже, парфюм, плюс порошок, которым мама заботливо выстирала его рубашечку. Рахат-лукумчик, наложник, животное. Кавказский пленный. Когда мы вставали со скамейки, его лицо расплылось в улыбке. Я заметила щербинку, но даже она его не портила, придавала только что-то цыплячье и беззащитное. «Что я буду с ним делать?» – мелькнула мысль.