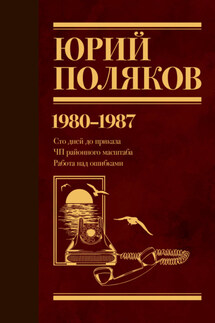Тени исчезают в полдень.Том 2 - страница 7
– Не знаю вот, из письма ли поняли, что у Полинки жених Красной армии командир, али Федор тот под пыткой сказал. Не знаю… Однако не должно, чтоб Федор… Парень-то был отчаянный и веселый, не должно… Ну вот, отца и мать его, Петюхи Смирнова, тоже забрали, сказывал я?
– Сказывал…
– Ага, ишь ты, забываюсь я памятью… Измывались над всеми ними шибко. Сам-то старик ничего, Полюшка моя тоже ничего. А старуха криком кричала ночей пять подряд… А потом тоже к яме повели. Стрелять не стали, изверги, а штыками закололи… Старик-то, Петюхин отец, загораживал все старуху. Его ткнули плоским штыком, а он стоит… Его ишшо ткнули, а он опять стоит. Уж нет-нет да упал… Упал он, значит, а немцы к Полинке. Руки-то у ней связаны, рубашонка порватая, грудь махонькая, девичья еще, оголилась. Ежится она и не штыков вроде боится, а наготы этой стыдится, пятится. Вот так… Руки-то у ней связаны сзади, сказывал я?.. Ага, ну вот, хотели уж колоть ее, а она запела вдруг тоненьким голоском. «Широка, поет, страна родная, в ней человеку вольно дышится…» И тогда староста полоснул черными глазищами, кинулся, как зверь, на Полянку, обеими ручищами горло ей перехватил… Песню эту я слышал часто, хорошая песня, да так и не запомнил, не певал никогда песен-то я. Заревел хрипуче староста: «Вольно, говоришь, дышится?.. Ну, дыши, дыши, гадючий выползок…» Без памяти закричал я чего-то, бросился к ней, к Полинке моей, из толпы… И боле уж ничего не помню.
Вздохнув, старик заломил конец бороды, вытер, как куском пакли, слезы и сказал:
– Так он ее и задушил, староста-то… Когда обмякла она, в яму швырнул, да еще ружье у немца выхватил, расстрелял все вниз… В Полюшку. Вот он, староста-то, какой был… Сидором Фомичевым его звали, сказывал я? Нет? Ну вот…
Старик еще раз передохнул, вытер еще раз глаза и закончил свой рассказ:
– Об этом после, когда я дома лежал почти что мертвый, мне уж люди рассказали. И что немец прикладом меня саданул, когда я из толпы выбежал, и про все… И разведчикам, что приходили еще в деревню потом, все рассказали люди, чтоб, дескать, дрались с немчурой не жалеючи… А я думаю – зря Петюшке-то знать об этом было до поры… Долго ли, не поберегшись, о пулю напороться! Да… без чувств, говорю, лежал… Бабам наказал, когда бой зачался: «Держите, говорю, старосту Фомичева, ради бога…» Где там! Вперед немцев, сказывают, убежал… Так вот и упустили. Известно, бабы… А я сейчас хожу, Петюху ищу. Раненый он, говорят. Вот ты, доктор, однако, али сиделка – кровью и больницей от тебя пахнет. Не укажешь, где Петюху-то искать? Посмотреть на него охота…
– Нельзя на него смотреть. Без памяти он. В тыл сейчас его повезут, в госпиталь.
– Ну, вези, вези… Гляди мне, вылечи его! Полюшку-то не вылечишь теперь. Не забудь только, передай: все пела она в холмах, как письмо приходило. Я вот и жил-то затем только, чтоб самому рассказать Петюхе, как она пела. Да, вишь, нельзя, выходит. Так ты расскажи. А я помирать пойду. Все нутро отбил немец-то прикладом, оторвалось там что-то… Ну, прощай…
Вера Михайловна слушала старика и с удивлением глядела на дымящиеся развалины небольшого домика, возле которых они стояли. Из всего домика уцелела одна-единственная стена. Она была густо изрешечена пулями, осколками снарядов. На стене висели старинные, в черном футляре часы с круглым тяжелым маятником. Часы шли! Маятник неторопливо раскачивался, отсчитывая секунду за секундой.