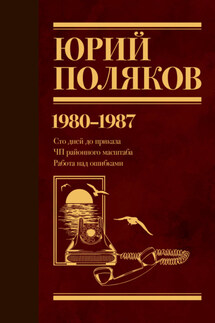Тени исчезают в полдень.Том 2 - страница 9
Она понимала, но сердце Петра Ивановича давало перебои все чаще и чаще. Начались сильные припадки. Они сваливали его иногда намертво. Петр Иванович сперва скрывал это, пока было можно. Потом, несмотря на запрещение врачей, добился у самого министра обороны разрешения служить в армии. Добиться его было делом почти немыслимым, но он добился, – правда, с одновременным назначением военкомом одного из глубинных районов Сибири…
И только весной 1959 года, когда врачи категорически заявили, что дело идет о жизни или смерти, малейшая нагрузка на сердце приведет его к гибели, он подал в отставку.
Подал и спросил жену:
– Я знаю, жить мне осталось недолго. Сколько – врачи не скажут. Ты тоже врач. Но ты еще моя жена. Я у тебя никогда не спрашивал об этом. А теперь спрашиваю – сколько?
Вера Михайловна заплакала.
– Сколько? – бледнея, повторил Петр Иванович.
– При той жизни, которую ты ведешь… это… может случиться каждую минуту. Но если будешь беречься, если оставишь работу – года два… три, может быть…
– Так… не больше?
– Осколок. Вот он, – вместо ответа сказала Вера Михайловна.
– Так, – еще раз повторил Петр Иванович, положил руку на сердце, послушал. Оно билось ровно и спокойно, как ни в чем не бывало. Он усмехнулся. – Видишь, я даже нисколько не взволновался, когда узнал, что жить мне осталось всего семьсот дней. Семьсот. Самое большее – тысячу. Видишь, я даже весел. А раз так, значит, все вы ошибаетесь. Я проживу больше. А в общем – поедем на юг, отдохнем хоть раз в жизни по-настоящему.
Два с половиной месяца они провели на Черноморском побережье, купались в море, валялись на теплом песке, в тени полосатых зонтов. Первый месяц Петр Иванович ничего не говорил, играл целыми днями в шахматы, лениво перелистывал журналы. К концу второго стал пожмуриваться на море и на веселое, неугомонное солнце, как кот на воробья… А в начале третьего спросил:
– Черт возьми… Тут никогда не дохли от безделья?
Через неделю они были в Усть-Каменке. Поговорили с жителями села, посидели на могиле его отца с матерью. Петр Иванович посадил березку над могилкой Полины и ее деда, заново покрасил оградки вокруг невысоких холмиков.
И сказал:
– Тяжело мне тут. Поедем к себе, в Сибирь.
Приехали в Сибирь, уже зимой, в ноябре, вызвали к себе стариков Веры Михайловны. Петр Иванович набросился на книги так, будто сроду никогда не читал их. Но через месяц-полтора начал пошвыривать то одну, то другую недочитанную книгу на диван. Швырнет и начинает ходить по комнате из угла в угол, как запертый в клетке зверь.
Вера Михайловна, возвращаясь с работы из поликлиники, все чаще и чаще заставала его за этим занятием и тяжело вздыхала.
– Ну, чего вздыхаешь? Что ты меня жалеешь?! Тебе-то хорошо…
– Петенька, не волнуйся, родной…
– Э-э…
Часто эти метания из угла в угол кончались припадками. Однажды, очнувшись от очередного сердечного приступа, Петр Иванович сказал:
– Вот что… Из оставшейся тысячи дней я уже сто пятьдесят прожил. Бесполезно прожил. Так дальше не пойдет.
Опять Вере Михайловне пришлось укладывать чемоданы. На этот раз путь их был не особенно далек – до таежного села Озерки, где Петр Иванович с помощью начальника политуправления военного округа получил должность редактора озерской районной газеты. Ничто не помогло – ни слезы Веры Михайловны, ни уговоры и просьбы выбрать какую-нибудь работу полегче, ну, библиотекаря хоть, что ли.