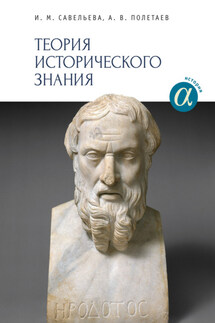Теория исторического знания - страница 7
В Древней Греции и Риме «история» в значении знания имела не общий, а конкретный смысл, соотнесенный с определенным текстом, который, соответственно, и «изучала история». Именно так, по мнению французского историка Анри-Ирене Марру, «история» изучалась в эллинистической Греции в рамках грамматических занятий в школах. Главная часть школьных упражнений в области «истории» состояла в анализе текстов (причем не только прозаических, но и поэтических). Вначале проводился лексический анализ (специфический словарь данного поэта или прозаика), затем морфологический анализ (стилистические формы и этимология). Лишь после этого начиналось изучение содержания текста.
«Просвещенный человек и даже хорошо воспитанный ребенок должны были знать, что за человека или место упомянул поэт… Ученость полностью подчиняла себе образование и культуру: нужно было знать, например, список людей, воскрешенных искусством Асклепия, или что Геракл вышел лысым из чрева морского чудовища, которое проглотило его, когда он хотел спасти от него Гесиону…»[8]
Но, несмотря на доминирование «филологических» представлений об «истории», в эпоху античности наметились и некоторые гносеологические подходы к «истории-тексту». Иными словами, целый ряд авторов пытался сформулировать, какое именно знание должно содержаться в «исторических» текстах. Эта смысловая линия была связана с назначением «исторического знания», его прагматической или функциональной составляющей.
Основная функция истории-текста – приносить пользу, в отличие от «художественной литературы», которая должна доставлять удовольствие: об этом писали Фукидид (хотя и не используя слово «история»), Полибий, Цицерон, Квинтилиан, Лукиан.
Понятие «пользы» исторических сочинений связывалось в первую очередь с «сохранением памяти о деяниях». Можно сказать, что речь шла о фиксации социального опыта и о соответствующем накоплении знаний, которые могут пригодиться в будущем. С «функциональной» точки зрения история, прежде всего, подразделялась на два направления, которые можно обозначить как социально-политическое и морализаторское.
В рамках социально-политического направления «история» трактовалась как знание, предлагающее способы решения текущих проблем – например, в области военного искусства, государственного управления, внутренней и внешней политики. Поэтому особое значение придавалось не только правдивому и точному описанию произошедшего, но и воссозданию внутреннего смысла событий, их причинно-следственной связи, т. е. пониманию смысла происходящего – особенно четко эту линию проводил Полибий, но она встречается и у Цицерона, и у Лукиана.
Если политическая история пыталась объяснить функционирование социального мира, то морализаторская историческая проза ставила задачу формирования моральных образцов поведения. Впрочем, «обществоведческая» функция часто смыкалась с морализаторской.
Но независимо от конкретных функций, приписываемых историческому знанию, его спецификация шла по трем направлениям: методу, предмету и времени, определявшихся семантическими и прагматическими параметрами исторических текстов.
Метод (каким образом). Поскольку история-текст, в соответствии с приписываемыми ей семантическими и прагматическими характеристиками, должна была описывать реальность, «то, что было на самом деле», эта установка подкреплялась определенными методическими правилами, призванными обеспечить соответствие семантическим и прагматическим требованиям.